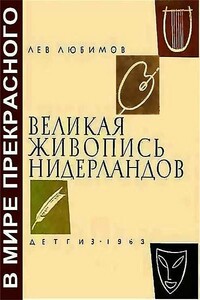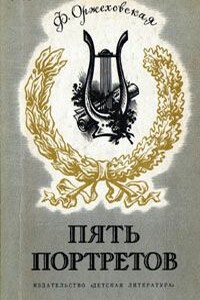Воображаемые встречи | страница 42
Снова прежние образы: неразлучные и во всем непохожие друзья! Говорят, к тридцати годам люди успокаиваются, становятся рассудительнее, холоднее. Может быть, многие, да только не Шуман. С годами он сильнее чувствовал контрасты жизни и искусства. А если судить по фисмольной сонате, то здесь дух Флорестана еще мятежнее, чем в юности. Но кто достиг полного равновесия мыслей и чувств, так это Евсебий. Каждый узнает его во вступлении к фисмольной сонате — в лирическом эпизоде — и во второй части, в «Арии», которую я назвал бы гимном любви.
Для меня тот год знаменателен появлением его бессмертной «Крейслерианы».
— Это конец главы, — сказал мне Шуман.
— Конец главы?
— Да. Если хочешь, я подвожу итоги.
Хотел ли он сказать, что с его женитьбой начнется новая жизнь, или то, что он не будет писать для одного фортепиано?
«Крейслериана» состоит из восьми довольно больших картин. Это поток чувств и мыслей, который Лист назвал «душевным контрапунктом». Меткое название! Разве наша душевная жизнь не полифонична? [40] Разве в ней не сплетаются разные чувства, побуждения? И разве не преобладает в ней одно главное стремление, которому мы остаемся верны?
Но определение Листа вовсе не означает, что «Крейслериана» написана в форме фуги. Ни в какой мере! Лист хотел сказать, что в этой музыке полифонично содержание, а не форма.
А по форме это всё те же сцены-вариации, к которым мы привыкли у Шумана, — вариации с внутренней темой. И все же мне хочется воскликнуть: «Прощайте, „Озорные годы“!» Здесь нет бьющей через край веселости «Карнавала», быстроты впечатлений, как в «Бабочках», нет беспечности, неожиданных шуток, мистификаций. Нет буйства красок, игры, дразнящих прыжков. Но какая глубина во всем, какая смелость. Ни годы, проведенные с Шуманом, ни долгие разговоры с ним, ни самые искренние его признания не могли бы с такой полнотой открыть мне его душу, как эта музыкальная исповедь.
Он назвал эту пьесу «Крейслерианой» — в честь гофмановского чудака, капельмейстера Крейслера. Но я не очень верю этому названию. Увлечения его юности — Гофман и Жан-Поль — остались позади. Эта музыка — подлинная Шуманиана.
— Здесь нет ни одного звука, который можно назвать проходящим, — сказал я Роберту. — Не слишком ли это плотно?
— Ты находишь? — спросил он.
— Ведь в жизни не бывает ничего сплошного: прекрасное чередуется с обыденным.
— Не знаю, — ответил Роберт. — В искусстве нет обыденного… Ну, а что ты еще скажешь?