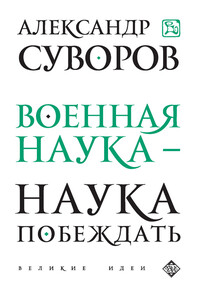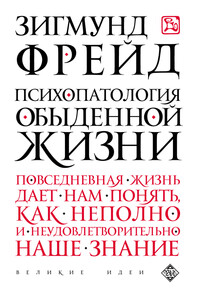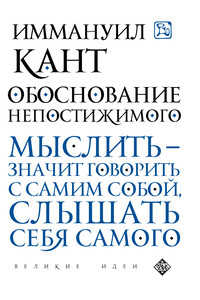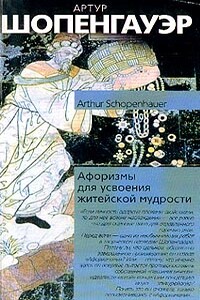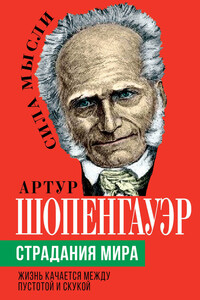Искусство побеждать в спорах | страница 35
Люди, которые провели свою жизнь за чтением и почерпнули свою мудрость из книг, похожи на тех, которые приобрели точные сведения о стране по описанию множества путешественников. Они могут о многом сообщить подробности, однако же в сущности они не имеют никакого связного, отчетливого, основательного познания о свойствах страны. Напротив, люди, проведшие жизнь в мышлении, уподобляются тем, которые сами были в той стране: они одни понимают, о чем, собственно, идет речь, знают положение вещей там в общей связи и поистине чувствуют себя как дома.
Самобытный мыслитель находится в таком же отношении к обыкновенному книжному философу, как очевидец к историческому исследователю; он говорит на основании собственного непосредственного знакомства с делом. Потому-то все самобытные мыслители в основе сходятся между собою, и все их различие проистекает только от точки зрения; где же таковая не изменяет дела, там все они говорят одно и то же. Ибо они только высказывают то, что объективно себе усвоили. Часто, к радостному своему изумлению, я находил уже высказанным в старых сочинениях великих людей те мысли, которые из-за их парадоксальности я не решался высказать на публике. Книжный философ, напротив того, повествует, что говорил один, и что думал другой, и что опять полагал третий, и так далее. Он сравнивает это, взвешивает, критикует и старается таким образом напасть на след истины, причем он вполне уподобляется историческому критику. Вполне ясный пример в подтверждение сказанного здесь могут доставить любителю курьезов «Аналитическое освещение морали и естественного права» Гербарта[21] и его же «Письма о свободе». Приходится просто изумляться, какой труд задает себе человек, тогда как, казалось бы, стоило только немножко употребить самомышления, чтобы увидеть дело собственными глазами. Но тут-то как раз и происходит маленькая задержка: самомышление не всегда зависит от нашей воли. Во всякое время можно сесть и читать, но не сесть и думать. С мыслями бывает именно то же, что и с людьми: их нельзя призывать во всякое время, по желанию, а следует ждать, чтобы они пришли сами. Мышление о каком-либо предмете должно установиться само собою вследствие счастливого, гармонического совпадения внешнего повода с внутренним настроением и напряжением, а это-то как раз подобным людям и не дается. Это можно проверить даже на мыслях, касающихся нашего личного интереса. Если нам в каком-нибудь деле предстоит принять решение, то мы далеко не во всякое любое время можем приступить к тому, чтобы обдумать основания и затем решиться, ибо зачастую случается, что как раз на этом-то наша мысль и не хочет остановиться, а уклоняется к другим предметам, причем иногда виновато в этом бывает наше отвращение к делам подобного рода. В таких случаях мы не должны себя насиловать, но выждать, чтобы надлежащее настроение пришло само собою; и оно будет приходить неожиданно и неоднократно, причем всякое различное и в разное время появляющееся настроение бросает каждый раз другой свет на дело. Этот-то медленный процесс и называется созреванием решения. Урок должен быть разделен на части, вследствие чего все, раньше упущенное, снова принимается в соображение, отвращение к предмету исчезает, и положение дела, будучи обстоятельнее рассмотрено, большею частью оказывается гораздо сноснее. Точно так же и в области теории следует выжидать благоприятного часа, и даже самый величайший ум не во всякое время способен к самомышлению. Потому-то он благоразумно и пользуется остальным временем для чтения, которое, будучи, как сказано, суррогатом собственного мышления, доставляет уму материал, причем за нас думает другой, хотя всегда своеобычным образом, отличным от нашего собственного.