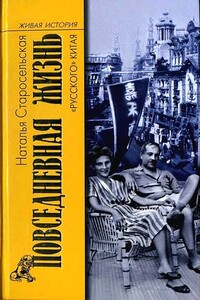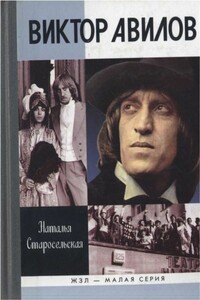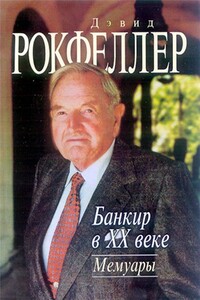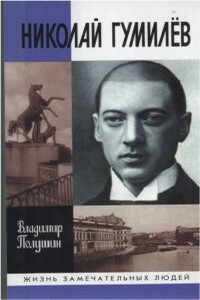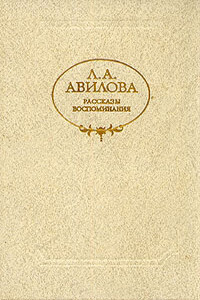Товстоногов | страница 124
Г. А., опять-таки во имя методологического воспитания, превращал репетиции с Полицеймако в показательный урок. Помню репетицию, которая почти целиком была посвящена пятиминутному эпизоду в трактире.
Так продолжалось на протяжении всего 56-го года, первого года работы Г. А. в БДТ… Определялись новые лидеры, решалась в этих спектаклях судьба многих молодых, когда они просыпались знаменитыми. Но Виталий Павлович в этих спектаклях ролей не получал, довольствуясь трактирщиком. С ним стали “хуже” здороваться, один раз даже не выбрали в худсовет, разумеется, тайным голосованием».
Страшный рассказ, трагический сюжет! Но Георгий Александрович не мог позволить себе быть милосердным. Не мог!
Нет тому никаких веских доказательств, но, шаг за шагом исследуя биографию Товстоногова, нельзя не прийти к выводу: это был момент, когда режиссер осознал — сейчас или никогда! Словно все душевные силы, словно все обнаженные нервы, словно вся мощь таланта стянулись к этой точке, к этому «необойденному дому», к которому вывела Товстоногова судьба. И ради того, чтобы на этом месте, покинутом зрителем, возник лучший в стране театр, он шел на любые жертвы, был беспощаден и жесток.
Возвращение зрителя было невозможно без воспитания артиста.
Создание театра было невозможно без дисциплинированной труппы единомышленников.
К началу 1957 года в БДТ уже многое изменилось — зал был полон, драматурги и переводчики стали посылать в театр пьесы, наладился тот «поток», который необходим каждому театру. И в один прекрасный (действительно прекрасный!) день завлиту театра Дине Морисовне Шварц попала в руки пьеса бразильского драматурга Гильерми Фигейредо «Лиса и виноград».
«Я раскрыла эту пьесу и зачиталась… Меня поразила раскованность бразильского драматурга, остроумие гениального раба Эзопа, его чувство собственного достоинства. Прочитала примерно половину, вдруг в мой кабинет зашел Г. А. С трудом оторвавшись от пьесы, я на него посмотрела. Он посмотрел на меня:
— Что такое вы читаете? Дайте мне.
Молча я сложила пьесу и отдала ему. Вероятно, мое лицо тогда еще не было таким “тертым”, каким стало впоследствии, и на нем что-то такое отразилось, что побудило Г. А. немедленно потребовать пьесу, хотя мне всегда стоило больших трудов “заставить” его читать пьесы, что вообще свойственно большим режиссерам, читающим пьесы не “просто глазами”. Поздней ночью Г. А. мне позвонил:
— Блестящая пьеса. Буду ставить немедленно. Завтра читка на труппе. <…>