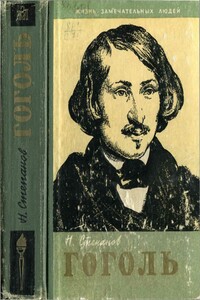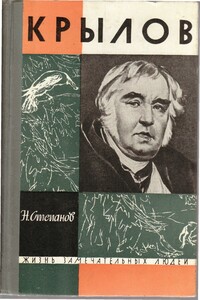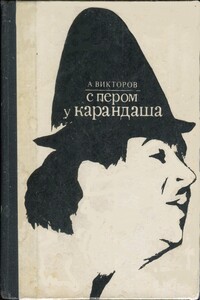Гоголь: Творческий путь | страница 92
Глубокий реализм повести, своеобразие художественного метода писателя, которые сказались в изображении обыкновенного, будничного в его типической сущности, посредством, казалось бы, незначительных, а на самом деле весьма важных для понимания этой сущности деталей и подробностей, – уже тогда были зорко раскрыты Белинским, писавшим в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя»: «Эта простота вымысла, эта нагота действия, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемых автором происшествий – суть верные, необманчивые признаки творчества, это поэзия реальная, поэзия жизни действительной, жизни коротко знакомой нам». При этом Белинский особо отмечает замечательное мастерство Гоголя «делать все из ничего», «заинтересовать читателя пустыми, ничтожными подробностями».[117] Не случайное нагромождение подробностей, а их отбор, выделение и заострение типических деталей, которые позволяют создать жизненно-конкретный и в то же время типический образ, – основа художественного мастерства Гоголя. Типическая деталь не является, конечно, свойством художественного метода одного Гоголя. Тургенев, Гончаров и Чехов в неменьшей мере к ней обращались в своем творчестве. Но особенностью гоголевской манеры является живописная, резко подчеркнутая, зачастую гиперболическая деталь, превращающаяся в своего рода символ.
Рисуя идиллию патриархальной «старосветской» жизни с ее тихим уютом и безмятежным довольством, рассказчик в простоте этой жизни, в трогательном чистосердечии наивных и добрых старичков, обнаруживающих редкую чистоту сердца и искренность чувства, видит те черты, которые уже исчезли в современном обществе, знающем лишь корыстолюбивые и хищнические стремления, власть бессердечного чистогана. Даже и внешность обоих старичков передает их доброту, ясность и простоту их душевного мира, тем более разительную, что она противопоставлена грязной «деятельности» «низких малороссиян», стремящихся к наживе. По их лицам «… можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают, наконец, капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на