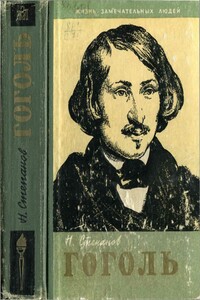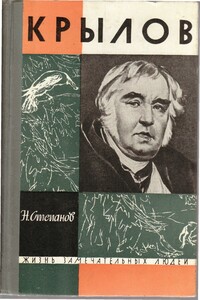Гоголь: Творческий путь | страница 12
Гоголь отрицательно оценивал гимназию при ее первом директоре – Орлае. Но после ухода Орлая, в конце 1826 года, когда направление гимназической жизни определялось группой передовых профессоров во главе с инспектором Н. Г. Белоусовым, отношение Гоголя к гимназии меняется. Именно этот период он называет самым счастливым периодом в Нежинской гимназии высших наук: «… директора у нас нет, – сообщает Гоголь матери в письме от 16 ноября 1826 года, – и желательно, чтобы совсем не было. Пансион наш теперь на самой лучшей степени образования… до какой Орлай никогда не мог достигнуть; и этому всему причина – наш нынешний инспектор; ему обязаны мы своим счастием; стол, одеяние, внутреннее убранство комнат, заведенный порядок, этого всего вы теперь нигде не сыщете, как только в нашем заведении. Советуйте всем везть сюда детей своих: во всей России они не найдут лучшего».
Нежинская гимназия не получила в жизни Гоголя того значения, какое имел для Пушкина Царскосельский лицей, тем не менее ее роль в становлении взглядов молодого Гоголя была весьма значительна. Наряду с теневыми сторонами, рутинерством и схоластикой школьного преподавания в гимназию проникали и новые, передовые веяния, благотворно влиявшие на развитие будущего писателя. И в Нежинской гимназии высших наук нашлись люди, стоявшие на уровне передовых взглядов своего времени. Обязанности директора с конца 1826 года более двух лет выполнял профессор математики и естественных наук Шаполинский. По словам одного из учеников лицея, П. Редкина, вокруг Шаполинского и Белоусова группировался кружок, к которому принадлежали «люди благородные, умные и сведущие» – Ландражин, Зингер, Соловьев, пользовавшиеся «любовью и популярностью среди учащихся».[24] В противоположном лагере находились реакционные профессора во главе с Билевичем.
На два лагеря делились и ученики гимназии: на привилегированную группу из богатых дворян и на детей менее состоятельных родителей. Богатые «аристократы» среди гимназистов не жаловали Гоголя. Школьное прозвище – «таинственный Карла», – по свидетельству А. Данилевского, дано было Гоголю потому, что он держался особняком от аристократической группки гимназистов.[25] Не только сознание своего неравноправного положения среди привилегированных учеников, но и постоянная внутренняя углубленность, стремление к заранее поставленной возвышенной цели отделяли юношу от его гимназических товарищей. В письме к дяде Петру Косяровскому от 3 октября 1827 года Гоголь признается: «Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, что бы могло выявить глубь души моей». Тяжело пережил юноша смерть отца, умершего в апреле 1825 года, потеряв в нем «вернейшего друга», «всего драгоценного» «сердцу» (письмо к матери от 23 апреля 1825 года). Со смертью отца материальные затруднения семьи еще более возросли, и Гоголь за все свое пребывание в гимназии постоянно испытывает нужду в деньгах даже для самых незначительных и необходимых расходов.