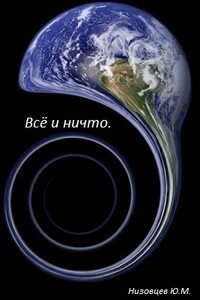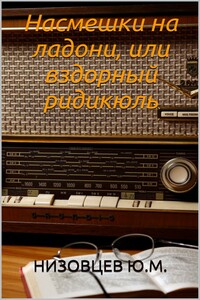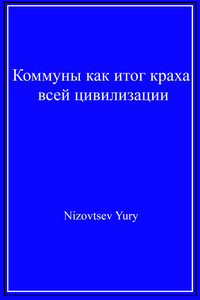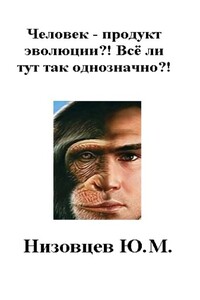Свобода, жизнь и сознание | страница 62
Сартр прав в том, что свобода выражается наиболее отчетливо в критических ситуациях. Однако следует уточнить, что в этих ситуациях выражается, скорее, не свобода, а сущность человека.
Сартр утверждает: «…что когда нет возможности выбирать, и человек осужден быть свободным, а свобода его абсурдна».
Свобода выбора, вопреки утверждению Сартра, есть всегда, по крайней мере, жить или умереть. Вот только решение зависит не от свободы, а от уровня сознания – один склонит голову, лишь бы жить, другой умрет, лишь бы не терпеть позора.
Выражение Сартра: «Выбор – это всегда вопреки» тоже своего рода эпатаж, поскольку главное для сознания – это, по мере сил, идти вперед, а согласно или вопреки происходит это движение, выявляется в конкретной ситуации: по реке можно плыть как вверх, так и вниз по течению. Просто одно легче, а другое труднее. [38, 39, 40]
Толстой Л. Н.
Толстой традиционен в своих воззрениях на свободу в отношении того, что признает в этом главенствующую внешнюю силу в виде Бога: «Свободен только тот человек, который повинуется одном закону Бога… Чем ближе человек исполняет законы Бога, тем он свободнее. Люди же свободу не могут дать… Свобода есть освобождение от иллюзии, обмана личности».
Толстой совершенно прав, что люди, как таковые, свободу дать не могут, но не прав в том отношении, что свободу дает Бог. Свободу никто дать не может, потому, что она, как говорил Христос, в виде Царствия Божия, находится в нас. Она есть состояние души и пока душа с нами, свобода у человека есть.
Толстой пишет: «Братство, равенство, свобода – бессмыслица, когда они понимаются как требования внешней формы жизни… Только если мы будем любить друг друга, будет братство между людьми. Равенство – это смирение. Только если мы будем не превозноситься, а считать себя ниже всех, мы все будем равны. Свобода – это исполнение общего всем закона Бога. Только исполняя закон Бога, мы все наверно будем свободны».
Некая неуверенность в этих словах, недостижимость в реальной жизни этого, подтверждается следующей сентенцией Толстого: «…вся жизнь есть приближение к этой свободе, всемогуществу, которого она никогда не достигнет, потому что достижение уничтожило бы движение. А в этом движении неперестающее благо».
Тут Толстой интуитивно выходит на адекватную мысль: жизнь есть развитие. Если эту мысль дополнить тем, что в смертном человеке и конечном человечестве такого постоянного развития не может быть, то вырисовывается идея о том, что в этом развитии через конечное участвует иная, бессмертная сила бытия в виде его сознания, претерпевающая вместе с телом, как и Христос, все тяготы и испытания жизни.