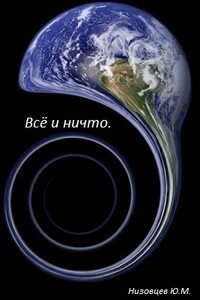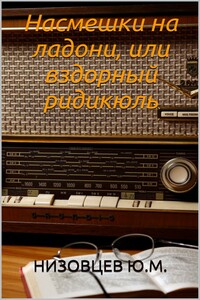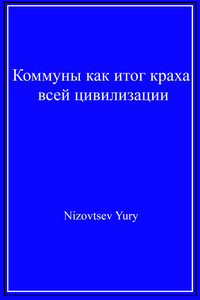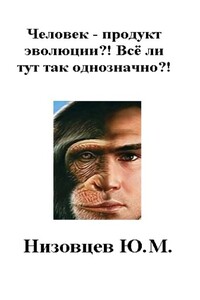Свобода, жизнь и сознание | страница 30
Из этого подхода Канта к свободе видно, что ничего нового тут он не открыл.
Таким образом, мыслители ХYII, ХYIII не приблизились к пониманию свободы больше, чем это сделали античные мыслители. Напротив, кроме Лейбница, они только затемнили его.
Фихте И.
Фихте пишет о свободе так: «В свободе – путь к обновлению человечества, к созданию новой земли и новых небес; нет нравственности без свободы, а свобода допустима лишь с идеалистической точки зрения».
«Я» и «не Я» – субъект и объект – не безграничны, но взаимно ограничивают свою деятельность и сочетают в своем взаимоотношении свои противоположные свойства. «Я» играет активную роль и все объекты познания принадлежат нашему «Я». Творческий дух порождает «не Я», проектирует его перед нами, является причиной кажущейся независимости от сознания – объективности, а его деятельность создает то устойчивое в изменчивых атрибутах «не Я», что представляет субстанциональность вещей.
Мне предстоит внешний мир как нечто, не зависящее от моей воли и от моего сознания не потому, чтобы он имел реальность как вещь в себе, но потому, что процесс его объективации творческим «Я» был бессознательный процесс и я неожиданно встречаю в моем сознании то, что вырастает из подсознательных глубин моего духа. Проекция мира во вне совершается в моем «Я» бессознательным механизмом творческого воображения. Продуктом этой творческой деятельности является, прежде всего, тот материал, из которого сотканы восприятия, а именно ощущения: ведь восприятия и суть ощущения, объективированные бессознательной деятельностью моего «Я».
С теоретической точки зрения, «Я» полагает себя ограниченным через «не Я». С практической точки зрения взаимоотношение субъекта и объекта меняется. «Я» полагает «не Я» определенным посредством «Я». Центром нашего «Я» является активность духа – умственное усилие и в то же время импульс воли. «Я» неудержимо стремится одухотворить, интеллектуализировать противостоящее ему «не Я» – поднять его на высшую ступень сознания, подчинить его закону разума. Но попытка «Я» воплотить свои практические стремления, утолить ненасытную жажду деятельности, наталкиваются на ограничение со стороны «не Я». Отсюда неудовлетворенность, чувство принуждения, оно создает стремление к самоопределению. Самоопределение должно заключаться в свободе, в гармонии между влечением и его реализацией. Такая гармония достижима лишь непрестанной деятельностью ради деятельности, в чем выражается «абсолютное влечение» нашего «Я» (нравственный долг).