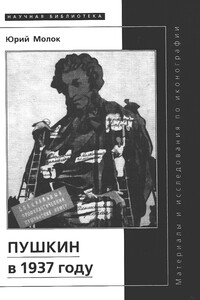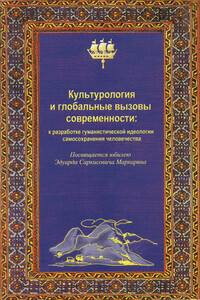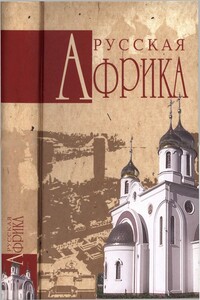Музыкальный строй. Как музыка превратилась в поле битвы величайших умов западной цивилизации | страница 44
Не меньшее влияние на Леонардо оказал и Фацио Кардано, колоритный адвокат, врач и математик, прославившийся в университете Павии тем, что читал лекции не в привычной черной одежде, а в кроваво-красной. Кардано показал Леонардо свой перевод “Общей перспективы” Иоанна Пекама – это событие определило жизненный путь юного художника. “При занятиях природными наблюдениями свет наиболее радует созерцателей, – писал Пекам. – Оттого всем преданиям и учениям человеческим должна быть предпочитаема перспектива… [в ней] слава не только математики, но и физики, цветами той и другой украшенная”[18]. Трактат самого Леонардо начинался там, где заканчивался пекамовский, с заголовка: “Введение в перспективу, то есть в науку о функциях глаза”.
Перспектива к тому времени превратилась из просто художественного приема в целую новую философию, объединяющую всю европейскую культуру. Человек – мера всех вещей, утверждала эта философия. Разумеется, идея впервые была высказана еще в античные времена мудрецом Протагором (как не преминул напомнить своим читателям Леон Баттиста Альберти в трактате о живописи). В конечном счете, утверждал Протагор, истина – субъективна.
Его высказывание стало слоганом эпохи. Человек – мера. Гуманистическое мироощущение – сколь бы эксцентричным, непонятным, искаженным оно ни казалось – предлагало модель существования, ничуть не менее осмысленную, чем любой бесплотный идеал. Личный опыт стал локомотивом прогресса.
Вообще-то реалистическая перспектива в живописи существовала задолго до XV века. Ее использовали, например, древние греки – чтобы вдохнуть невероятную глубину и витальность в свое искусство (в отличие от египтян, которых не интересовал реализм, и они довольствовались изображением людей как неких простых, неодушевленных, плоскостных контуров фигур). На самом деле знаменитое изображение человека Леонардо – с расставленными в сторону руками и ногами, образующими квадрат, и кроме того, вписанное в круг, – прямо восходит к работам Витрувия. Античные мастера не только выучили верные пропорции тела и конечностей, но и овладели волшебством изображения гибкости человеческой фигуры: это была не просто форма, но движущаяся форма, перекладывающая вес с одной части тела на другую, чередующая напряжение с расслаблением, основанная на симметрии осей. Донателло, друг и соратник Брунеллески по изучению римских памятников, с оглушительным успехом возродил этот подход в своих собственных произведениях, особенно в его великолепной, пугающе реалистичной обнаженной статуе Давида.