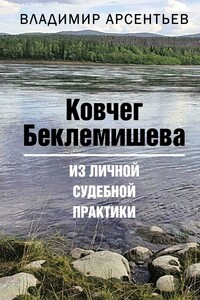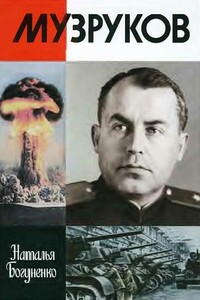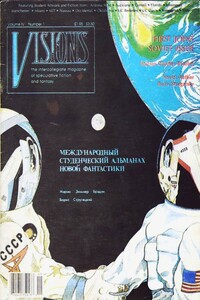Психология творчества. Вневременная родословная таланта | страница 19
Если достоинства века сомнительны, литераторы с искусным пером (иногда с навыками разбитного подмастерья) поднимают сильных мира сего, как то и засвидетельствовал П. Аретино, «до высоты своего искусства».
Эксперимент, однако, сомнительный. Не отдает ли интеллектуально привилегированное сословие художников-творцов гораздо больше, чем возвращает обратно, оценивая выгоды союза с власть предержащими? Последние, казалось бы, делают рыцарский жест: «Богачи и цари, оказывая почет философам, делают честь и им, и себе». Но сразу же проглядывает и «обратная сторона медали»: «Философы, заискивая перед богачами, им славы не прибавляют, а вот себя бесчестят» (Плутарх, 1–2 вв. н. э.).
Обесчещенными оказываются те, у кого репутация и честь в общем-то есть, хотя бы вследствие избранного поприща. Ведь если аристокрация духа «соединяет в себе понятия о силе и о чем-то избранном и лучшем» (П. Вяземский, 1852 г.), то это – лучшая сила. Но эту силу можно растратить по мелочам. Не так ли поступает человек, познавший нужду и отдающий золотник за пару медных грошей? И это не единственное, что можно увидеть на «обратной стороне медали».
Достойно ли большого мастера предлагать оптом и в розницу свой «нездешний дар»? Почему он забывает, что избранность таланта есть столь же случайный посыл судьбы, как и рождение вельможи в продолжение знатного рода? Он ли, служитель муз, истинный владелец сокровища, случайно найденного на перепутье дорог? Или то, что поднято с земли (под ногами – дар небесный), что досталось вперед заслуг (уверенность, что «могу творить!»), обычно ценится невысоко.
«Во весь рост, – констатирует искусствовед Н. Болдырев, – встает проблема внутреннего права пишущего на силу, скрытую в том или ином уже наработанном эпохами стилистическом приеме или методе… Все откровеннее литература становится игрой в литературу… Разрыв между реальной личностью пишущего и эстетико-культурной эмблематикой продукта, им создаваемого, становится подчас вопиющим» (из очерка «По лезвию бритвы», Россия, 1994 г.).
Однако почему сокрытие исторической правды (не только нарушение эстетико-культурной эмблематики) так «вопиет»?
«Если можно извинить нищенство, – осуждает конформизм писателя Оноре де Бальзак (1799–1850), – то ничем нельзя оправдать то выспрашивание похвал и статей, которыми занимаются современные авторы. Это тоже нищенство, пауперизм духа (от слова «пауперизм» – массовая нищета. – Е.М.)… Ложь и угодничество писак не могут поддержать жизни дрянной книги» (из очерка «Этюд о Бейле», Франция, 1840 г.).