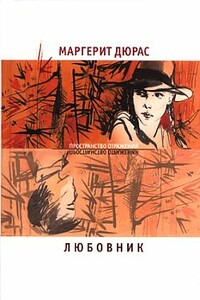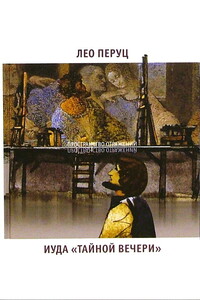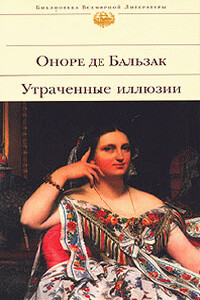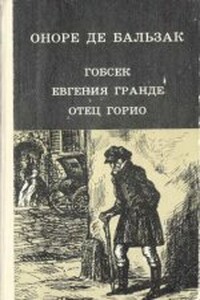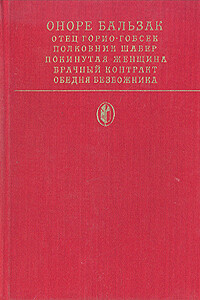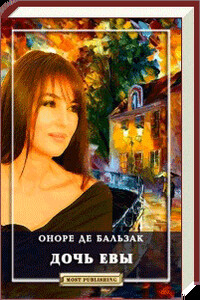Физиология брака. Размышления | страница 31
Неужели вы никогда не поражались, подобно нам, изъянам нашего общественного устройства, описание которых послужит нравственным обоснованием для наших заключительных расчетов?
Средний возраст вступления в брак для мужчины – тридцать лет; средний возраст развития в его душе самых могучих страстей, самых пылких желаний, самого бурного влечения к противоположному полу – двадцать лет. Следственно, в течение десяти прекраснейших лет жизни, когда красота, юность и острый ум мужчины представляют для супругов большую опасность, нежели в любую другую пору, мужчина этот не имеет возможности законно удовлетворить то неодолимое желание любить, которое пронизывает все его существо. Поскольку отрезок этот составляет одну шестую часть человеческой жизни, приходится признать, что по меньшей мере одна шестая часть общего количества мужчин, причем мужчин самых крепких и сильных, постоянно пребывает в состоянии столь же утомительном для них самих, сколь и опасном для Общества.
– Отчего же они не женятся? – воскликнет в ответ примерная богомолка.
Но какой здравомыслящий отец согласится женить сына в двадцать лет?
Разве не известно, какими опасностями чреваты ранние браки? Можно подумать, что брак решительно противоречит естественным склонностям человека – ведь он требует исключительной зрелости ума. Наконец, всем памятны слова Руссо: «Рано или поздно, но мужчина должен предаться распутству. Это – дурные дрожжи, которые когда-нибудь да должны перебродить».
Какая же мать обречет счастье дочери прихотям существа еще не перебродившего?
Впрочем, есть ли нужда так подробно толковать о положении, царящем во всяком обществе? Разве всякая страна, как мы уже показали, не изобилует мужчинами, которые вполне законно именуются порядочными людьми, не состоя в браке, но и не давая обета безбрачия?
– Но неужели эти люди не могут, – продолжит наша богомолка, – вести целомудренную жизнь, какую ведут священники?
Разумеется, сударыня.
Тем не менее осмелимся заметить, что обет целомудрия – одно из самых разительных отклонений от естественного порядка, каких требует общество; что воздержание – труднейший священнический подвиг; что священника, обязанного блюсти целомудрие, можно сравнить с врачом, обязанным бестрепетно исследовать все физические недуги, с нотариусом и стряпчим, обязанными хладнокровно взирать на открывающуюся их взорам нищету, и с военным, обязанным презирать смерть, которая окружает его на поле боя. Если цивилизация огрубляет иные струны души и приводит к образованию на иных тканях мозолей, которые лишают эти ткани чувствительности, отсюда никак не следует, что на это частичное отмирание души обречены все люди без исключения. В противном случае весь род человеческий кончил бы отвратительным нравственным самоубийством.