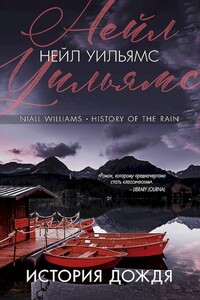Предел забвения | страница 90
Там, где отбирали часы, стоял последний из арестованных. Тем же путем к эшелону шел машинист с помощником и кочегаром, их сопровождали солдаты. И я знал теперь — это знание было как бы вменено сну, но возникало не сразу, — что этот арестованный — младший брат машиниста, с которым они давно не виделись. И приехав в город, младший — у него не было часов, и конвоиры обыскивали его дольше других, думая, что он их спрятал, — младший думал сделать старшему сюрприз, утром постучав в его дверь: из последнего письма он знал, что брату дали краткосрочный отпуск.
Машинист шел к своему паровозу; его подняли с полночи подменить заболевшего товарища, он был зол, воротничок резал шею, и он ждал, когда в кабине можно будет снять китель и надеть привычный свитер. Конвоиры развернули младшего брата лицом к стене, продолжая обшаривать карманы, маневровый паровоз на путях свистнул и дал задний ход, отвлек на себя внимание машиниста, и два брата не увидели друг друга. Машинист поднялся в кабину, сбросил китель, и пока он натягивал через голову свитер, его брата провели мимо паровоза к теплушкам.
Даже во сне меня поразила обыденность, легкость, с которой случилась эта не-встреча; события избегали соединиться друг с другом, существовали разрозненно, бессвязно, и то, что могло стать трагедией — в роковой момент брат узнал брата, — ею не стало.
В это время на дальнем перроне построился оркестр; репетировали встречу какой-то делегации. Но музыка не заладилась, музыканты не фальшивили даже, а просто не смогли вывести мелодию. Тогда вышел мальчик — он должен был читать приветствие от пионерии; однако и рифмованная речевка запнулась, чтец будто проглотил половину текста.
Ни музыки, ни стихов; почему-то стихи остановили мое внимание. Я понял, что слова в них посредством рифмы должны будто часовые окликать друг друга, видеть друг друга, и благодаря этому всегдашнему бодрствованию слов, их взаимному видению, возникает особая смысловая оптика текста, создающая поэтическое прозрение: возникает смысл, которого не получить иначе, чем через такую оптику.
Стихи — и трагедия; первые трагики писали гекзаметром, возгоняя состав событий — до трагедии, до точки, в которой разрывается слепая причинность и человек получает абсолютное зрение по отношению к себе и собственной судьбе, прозревает драматический смысл всего ее космоса. Это прозрение и делает трагедию — трагедией, откровением бытия, а когда бытие не откровенно человеку или он не способен восприять это откровение, есть только безысходные муки и страдания.