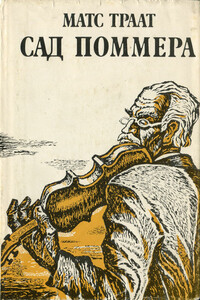Предел забвения | страница 22
И то, что Второй дед после моего рождения, которого он так ждал, устранился, могло бы дать пищу размышлениям; могло бы — но не дало.
Я уже говорил, что Второй дед жил как человек без прошлого; один, наружный, недостаток — слепота — скрывал другой: это самое отсутствие прошлого. Произошло замещение — слепца будто бы неловко, неуместно спрашивать, что он видел, как жил, кем был. Подразумевается, что такие вопросы напоминают ему о недуге, об утраченном здоровье, и Второй дед спрятался за свою слепоту столь естественно, что никто не заметил маневра. Он не прикидывался немощным, не выпячивал свою незрячесть, требуя особого отношения, — он всего лишь не видел, не видел со всей скромностью осознанной и принятой неспособности; не роптал, не жаловался, и только я, вероятно, понимал, что Второй дед специально сделал себя довеском к собственным незрячим глазам; он вряд ли мог вернуть дар зрения, диагноз пересмотру не подлежал, но смирение его было напускным.
В нем была та гордыня, которая незнакома обычным людям, не представляющим, что человек может быть скульптурным слепком своей гордыни; гордыня столь великая, что ее носитель почел бы за унижение обнаружить ее; гордыня — и презрение.
Впоследствии я смог все это увидеть лишь потому, что привычки Второго деда, его скрупулезный самоконтроль, втрое, вчетверо усиленный необходимостью учитывать случайный взгляд, которого он не заметит, все же были рассчитаны на то, как живут взрослые; а они не играют в прятки, не сидят молча, дыша через нос, под столом, когда кто-то входит в комнату.
Второй дед словно забыл, что в доме появилась еще одна пара глаз. Он никогда, с самого рождения, меня не видел, и, вероятно, я был для него поначалу чем-то вроде говорящего сквозняка. Он мог лишь умом отслеживать, как я расту, и незнание моего облика, неспособность уяснить себе мою действительную личность сделали меня — в его восприятии — разумным растением или домашним животным. Второй дед был слишком сосредоточен на том, чтобы всегда верно выглядеть перед взрослыми, удерживать в голове мысленную картину, построенную по звукам — кто куда пошел, кто где находится, кто откуда может смотреть, — и я «выпал» из этой картины, точнее, до времени так и не появился в ней. Второй дед не ждал от меня проницательности, не поставил на мне метку возможной опасности; он мог судить обо мне лишь по разговорам, которые вели со мной взрослые, и из этих разговоров — таково общее свойство бесед с детьми, если слушать их отстраненно, — мог возникнуть лишь образ копуши и недотыкомки.