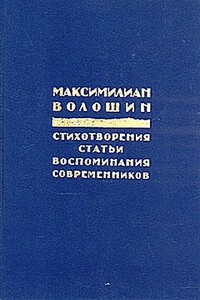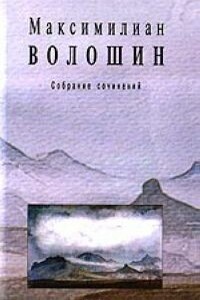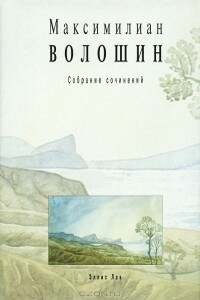Том 3. Лики творчества, книга 1. О Репине. Суриков | страница 58
Избрание в академию А. де Ренье вскоре после избрания Баррэса знаменует моральную победу поколения символистов. Для символистов она наступила раньше, чем для парнасцев: когда из того поколения первым был избран Эредиа – Парнаса уже давно не существовало как группы. Между тем «символизм» существует и творчески, и жизненно.
Поль Клодель
В России имя Поля Клоделя было до сих пор упомянуто лишь несколько раз, но, хотя оно и принадлежит к величайшим именам современной поэзии, этого нельзя поставить и упрек русской литературе, потому что и во Франции это имя еще не произносится на страницах больших журналов и широкой читающей публике совершенно неизвестно, что является лучшей рекомендацией чистоты его гения, не принявшего в себя никакой посторонней примеси, не отмеченного ни одним пятном вульгарности. В настоящее время Клоделя знают и ценят лишь немногие мастера слова.
Эта непризнанность не является ни случайностью, ни несправедливостью, ни неожиданностью.
Она истекает из основных свойств его творчества и личности.
О жизни его известно мало. Он родился во Франции в 1870 г.>1 Юношей посещал Маллармэ. Вскоре он покинул Францию и уехал в Китай,>2 откуда он возвращался в Европу редко и на короткие сроки. Первые книги были изданы им в Китае и не поступали в продажу. Лишь совсем недавно в издании Mercure de France было собрано почти всё, написанное им.
Это «Ь'агЬге» – том, в котором собрано пять его драматических произведений.>3 (Теперь он переиздан в трех томах>4 с первыми варьянтами каждой драмы).
Книга его философских статей – «L'art poetique».
«Connaissance de l'Est» – поэмы в прозе о Китае.>5 И «Cinq grandes odes»>6 (Ed. Occident).
Произведения Клоделя, по выражению Реми де Гурмона, являются «ликером, немного крепким для висков нашего времени»,>7 а «Музы» – едва ли не одной из самых трудных страниц этого трудного автора.>8
Появление «Муз» четыре года назад>9 прошло незамеченным во французской литературе, и только у очень немногих вырвались восклицания восторга.
«Я люблю, – писал тогда Вьеле-Гриффин, – опьянение этого танца слов, который широко и свободно бьет о землю подошвами сандалий и ступает по водам и по воздуху материальной стопой. Если мы прочтем эту оду без задней критической мысли и вновь перечтем ее, чтобы исследовать строй ее красоты, то мы почувствуем себя обогащенными удивительным гимном, сильными новой уверенностью, и на языке нашем останется вкус сочных и здоровых плодов сада вечного».