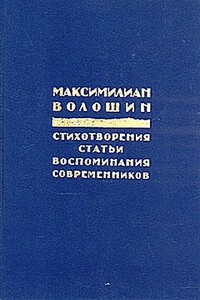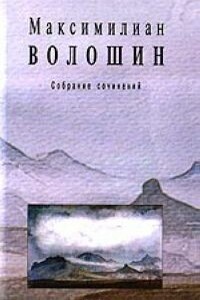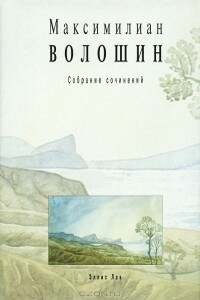Том 3. Лики творчества, книга 1. О Репине. Суриков | страница 56
То, что у Анри де Ренье осуществлено окончательно в образах и формах, столь легких и прозрачных, что под ними не чувствуется ни творческого усилия, ни напряжения многих поколений, подготовивших эту свободную текучесть, то у Тургенева существует лишь как указание направления, лишь как обетование возможностей.
Реализм Тургенева, легкостью которого мы восхищаемся, всё же гораздо тяжелее и плотнее, чем трепетные и сквозящие краски Ренье. И в то же время у Ренье больше жизненной полноты, так как по всем его произведениям разлита благоуханная и свежая чувственность, настоящее латинское чувство живой и влюбленной плоти, которого лишен стыдливо и мечтательно идеализирующий женщину славянин – Тургенев.
Анри де Ренье может давать уроки прекрасной и не ведающей стыда чувственности. Его гениальность вся в золотых пропорциях чувств, мыслей и образов.
Если среди современных французских романистов Анри де Ренье уступает в тонком и едком анализе современности Анатолю Франсу, Морису Баррэсу – в дерзком субъективизме и изощренности чувствований, Полю Адану – в эпической широте и мужественности замыслов, то как изобразитель характеров, как скульптор человеческих масок, как создатель лирического пейзажа, как чистый и беспримесный поэт современного романа Анри де Ренье не имеет равных.
В настоящее десятилетие Анри де Ренье принадлежит первенство во французской прозе настолько же, как и во французской поэзии. Это уже совершившийся факт, молчаливо признанный его современниками.
Признание его главой французской литературы еще не стало общим местом, но оно уже висит в воздухе. Еще какая-нибудь одна новая книга, еще одно движение в застывших струях общественного мнения, и его усталая аристократическая голова навсегда станет несвободной от тяжелого золотого венца.
Недавно Анри де Ренье избран во Французскую академию>26 на кресло Мельхиора де Вогюэ, занявшего в свою очередь кресло Низара. В этом наследовании нет исторической преемственности настолько же, как ее не было при избрании Анатоля Франса, который, как известно, заступил место Фердинанда Лессепса. В сущности, если бы академия заботилась о преемстве историческом, то А. де Ренье следовало бы стать преемником именно Анатоля Франса; не потому чтобы он был его литературным продолжателем (этого в действительности нет; Анатоль Франс, кажется, даже не любит А. де Ренье как художника), а потому, что Ренье для поколения символистов является таким же характерным представителем чисто латинского гения, вне всяких иных культурных примесей, каким А. Франс являлся для поколения парнасцев. Так же, как и А. Франс среди парнасцев (напомним, что он был редактором сборников «Парнаса»), А. де Ренье стоит на одном из первых мест, но немного в стороне от своих сверстников. Он не переживал всех крайностей отрицаний и утверждений, которые отличали героев первых схваток за символизм. Будучи символистом, он всегда оставался «классиком» в самом лучшем и жизненном значении этого слова. Он не делал никогда неверных шагов в творчестве: произведения его первой юности отмечены тою же зрелой уравновешенностью и ясной мудростью, как и страницы, написанные теперь, в эпоху полного расцвета его таланта. Это свойство опять-таки роднит Ренье с Анатолем Франсом.