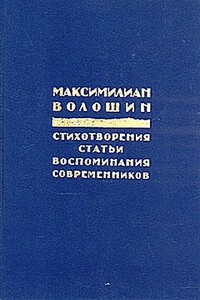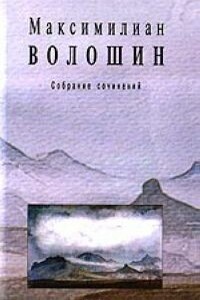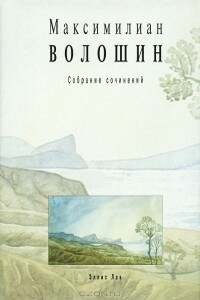Том 3. Лики творчества, книга 1. О Репине. Суриков | страница 53
«Можно было думать, что я – надменный старик – в уме перебираю снова планы кампаний и дипломатические ходы, и, когда палкой на песке аллей я чертил знаки и фигуры, все почтительно предполагали, что я развлекаю свою память, вспоминая порядок маневров и шифры тайных корреспонденций. Но я не думал ни о войнах, ни о делах, ни о принцессах в зеркальных беседках. Мой сын, из великих войн я вспоминал иногда то какой-нибудь блик солнца на лезвии шпаги, то маленький цветок под копытом коня, то известный трепет, известный жест, ничтожные подробности, таинственно закрепленные в моей памяти. Я вспоминал закрытую дверь, шелест бумаги, улыбку чьих-то уст, влажность чьей-то кожи, запах букета – неуловимейшие оттенки; они то, что есть в нашей жизни самого мимолетного, самого беглого и потому воистину согласованного с нашей собственной призрачностью».>22
Эти слова, проникнутые грустью, характерной для Ренье- юноши, дают точный и верный анализ его собственной художественной памяти. Воспоминание встает для Ренье с массой мелких и четких деталей, в которых запах, цвет и осязание смешиваются тесно и неразрывно. Его изобразительный метод определяется этим характером его восприятии. Он не дает непрерывно связанной картины, а лишь отдельные блики и точки, которые сливаются в уме читателя в единую гармонию, переливающуюся и трепетную. В основу метода он кладет «несвязанность художественно необходимую». Несвязанность эта чисто логическая и внешняя, потому что в глубине ее всегда подразумевается единый центр, от которого и к которому стремятся все лучи, не связанные между собою только на видимой периферии. «Всё имеет значение лишь в той перспективе, которая создается случаем». Метод, созданный для изображения впечатлений внешнего мира, приобретает еще более сосредоточенную силу, когда он применяется для обрисовки человеческих характеров.
«Человек, объясняющий свои поступки, уменьшает себя. Каждый для себя должен сохранить свою тайну. Всякая прекрасная жизнь слагается из отдельных моментов. Каждый бриллиант единственен, и грани его не совпадают ни с чем, кроме того сияния, которое излучают они… Всё имеет значение только в той перспективе, в которой случай располагает те осколки, в коих мы переживаем себя.
Судьба окутывает себя обстоятельствами, усвоенными ею. Есть некий тайный отбор между ветхим и вечным в нас самих… Всё только перспектива, только эпизод…».>23
Вот основа того метода, которым пользуется Ренье для изображения характеров, вот смысл той прерывности, которую он считает художественно необходимой. Прерывность лежит в самой основе наших восприятии жизни, и, перенесенная в искусство слова, она дает приблизительно те же самые эффекты, которых живописцы ищут в принципе разделения тонов. Теперь понятно, какое значение для изображения характеров при этом методе получает анекдот. И напомним, что Гонкуры, истинные предтечи нео-реализма, единственные из реалистов прошлой эпохи, широко пользовались анекдотом.