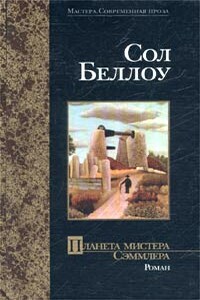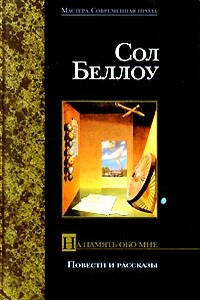Равельштейн | страница 56
Когда она увидела Равельштейна в инвалидном кресле, на ее лице отразилось нечто среднее между состраданием и насмешкой – она вздернула одну бровь. С ее толстого курносого носа соскользнула и шлепнулась об пол неприятная масса невысказанных соображений. Ну, дело-то плохо, конечно. Но ведь он же еврей. Иногда, протирая или полируя хрусталь, она бормотала себе под нос: «Мойшеле!» Оказывается, между ними произошел небольшой конфликт на почве хрусталя. Однажды Равельштейн, еще очень слабый после больницы, приветствовал ее лишь приподнятым пальцем и тут же сказал Никки: «Не подпускай ее к “Лалик”!»
– Она споласкивает бокалы под краном, – рассказывал он потом мне, – и отбивает края. Когда я показал ей причиненный ущерб, она начала рыдать. Пообещала купить мне в «Вулвортс» новый набор. Я спросил: «Вы хоть знаете, сколько стоит “Лалик”?» Когда я назвал цифру, она усмехнулась и сказала: «Шутить изволите, мистер!»
– Ты назвал ей цену?
– Невольно думаешь, что эти тетки точно так же обращаются с мужскими членами. Только представь: а если бы они тоже были хрустальные?
Здесь мне следует привести несколько задокументированных фактов о том, кем мы с Равельштейном приходились друг другу. Мы – главные действующие лица – и сами до конца этого не сознавали. Равельштейн не видел смысла обсуждать такие вещи. Он иногда отмечал, что я без труда понимаю все, что он говорит – и этого более чем достаточно. Когда он заболел, мы стали видеться ежедневно и вдобавок подолгу беседовать по телефону, как и полагается близким друзьям. Мы были близкими друзьями – что еще тут добавить? В ящиках моего письменного стола лежат папки с информацией о Равельштейне – десятки страниц. Но эта информация годится для книги лишь на первый взгляд. Что поделать, ну нет в современном языке слов и выражений, которыми можно адекватно описать дружбу или другие высшие формы взаимовлияния. И это странно, ведь человеку практически всегда есть что сказать обо всем сущем.
Равельштейн сразу выложил мне все факты. И почему, скажите на милость, он счел необходимым ввести меня в курс дела, этот высоченный еврей из Дейтона, Огайо? Потому что это нужно было сказать, и как можно скорей. У него был ВИЧ, и он умирал от осложнений. Ослабленный организм стал рассадником бесчисленных инфекций. Это не мешало Равельштейну без конца твердить мне, что такое любовь – потребность, осознание собственной неполноты, стремление к целостности, – и о том, как муки Эроса неотделимы от исступленного наслаждения.