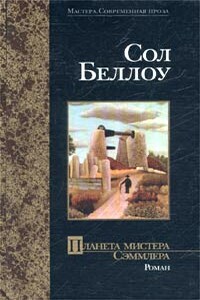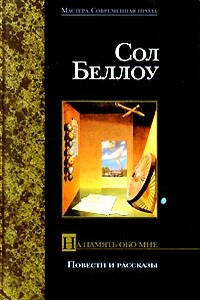Равельштейн | страница 40
Стоило чуть надавить, и Равельштейн тут же выкладывал все сокровенные тайны Бэттла – да и чьи угодно. Цитируя нашего общего покойного друга, он говорил: «Если это делаю я, это не сплетни, а урок социальной истории».
Он имел в виду, что личные идиосинкразии человека – всеобщее достояние, нечто доступное всем, как воздух и прочие предметы широкого потребления. Эйб не желал тратить время на психоаналитические спекуляции или анализ повседневной жизни людей. Он плевать хотел на «всю эту психологическую хрень» и предпочитал остроумие, даже откровенную жестокость традиционным благонамеренным дружеским объяснениям.
На холодной солнечной улице – мороз испещрил его лицо глубокими морщинами, – Бэттл спросил меня:
– Эйб нынче принимает гостей?
– Почему нет? Он всегда рад тебя видеть.
– Нет, я неправильно выразился… Он так любезен со мной и Мэри.
Мэри была пухлая, остроумная, улыбчивая женщина. Мы с Равельштейном очень ее любили.
– Раз он всегда вам рад, к чему эти вопросы?
– Ему вроде бы нездоровится…
– Да ему вообще всегда нездоровится. Эйб такой.
– Но сейчас он, кажется, совсем захворал?
Бэттл надеялся выпытать у меня подробности о состоянии Равельштейна. Конечно, я бы ничего ему не сказал, хотя и знал, как он любит Эйба – равняется на него. Со странными людьми я не откровенничаю. Каждый глоток морозного воздуха придавал физиономии Бэттла все более насыщенный оттенок красного, причем цвет этот равномерно заливал все лицо, стекая под плиссированные складки ворота. Шапки и шляпы он носил крайне редко – пышные черные волосы грели ему загривок. В тот день на Бэттле были туфли для танго. Я сочувственно относился к его странностям. В манерах Бэттла сочетались натянутая утонченность и прущая из-под нее непокорная брутальность.
Бэттлы держали Равельштейна в большом почете. Они ему сопереживали. И наверняка часто о нем разговаривали.
– Ну, он перенес несколько инфекций. Из особенно тяжелых – опоясывающий лишай.
– Herpes zoster, да-да, конечно. Поражает нервы. Ужасно больно и мучительно. Часто проникает в спинной и черепно-мозговой нерв. Я встречал такие случаи.
От его слов у меня перед глазами возникла картинка: Равельштейн лежит под пуховым одеялом. Потемневшие глаза ввалились, голова покоится на подушках. Посмотреть со стороны – человек отдыхает, но на самом деле ему вовсе не до отдыха.
– Значит, он поправился? – спросил Бэттл. – А потом разве не заболел чем-то еще?
Заболел. Новая инфекция называлась синдром Гийена – Барре, как нам сказали неврологи – когда наконец разобрались, что к чему. В то время таких диагнозов еще не ставили. Эйб только что прилетел из Парижа, где мэр устраивал званый ужин в его честь. Смокинг, галстук, торжественные речи – от такого мероприятия изголодавшийся по признанию Равельштейн не мог отказаться. В Париже, где он хотел провести отпускной год, Эйб снял квартиру на улице посольств и официальных резиденций, неподалеку от Елисейского дворца. Там всегда дежурила полиция, и каждое возвращение домой представляло определенные трудности: у Эйба никак не доходили руки посетить муниципалитет и оформить carte de séjour, вид на жительство. Поэтому, когда по ночам его останавливали с просьбой предъявить документы, начинались проблемы. Эйб отсылал полицию к маркизу Такому-то, хозяину его апартаментов. Да, об этих уличных инцидентах стоит сказать еще кое-что. В Париже даже неприятные разговоры с полицейскими происходят на высшем уровне. По сравнению с его истинными бедами ночная болтовня с корсиканцами была для Эйба скорее развлечением (он считал, что все flics – французские копы – поголовно родом с Корсики, и, как бы гладко они ни брились, их щеки и подбородки всегда остаются колючими).