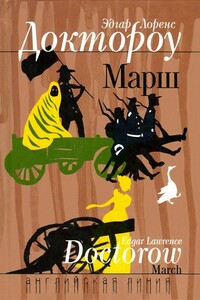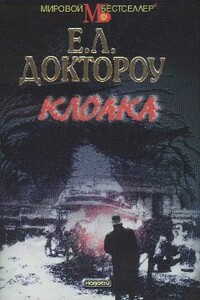Гомер и Лэнгли | страница 55
О господи, а потом в один ужасный день зазвонил телефон, и в трубке раздался этот тоненький плачущий женский голосок — едва слышный. Звонила Элла Робайло, жена Гарольда, по межгороду прямо из Нового Орлеана и попросила позвать к телефону Бабулю, бабушку мужа. Я и не знал, что Гарольд женат. Я ничего не знал об этом, но у меня не было никаких сомнений в том, кто она, эта говорившая дрожащим детским голоском, мне понадобилось собраться с духом, потому что я сразу понял, зачем она звонит. Когда я крикнул в кухню, зовя Бабулю подойти к телефону, голос у меня сорвался, из горла вырвался всхлип. Время было военное, видите ли, и люди не звонили по межгороду — дорого, — чтобы просто поболтать.
Перед тем как его переправили за границу, Гарольд Робайло сделал запись на одной из таких маленьких пластинок Победы, которые солдаты слали домой по почте, чтобы родные и близкие услышали их голоса. Небольшие трехминутные записи на шершавом пластиковом диске размером с блюдце. Очевидно, в тех же грошовых торговых рядах возле военной базы, где за четвертак делали четыре фото, или бородатый механический факир в стеклянном ящике поднимал руку, улыбался и выдавал из прорези напечатанное предсказание судьбы, были и студии звукозаписи. Вот Гарольд и послал Бабуле свою победную пластинку, но понадобилось несколько месяцев, чтобы она добралась до нас. Пока Лэнгли не догадался свериться со штемпелем, было отчего понервничать, обнаружив в почтовом ящике послание от Гарольда. Вы понимаете: это было уже после того, как Бабуля услышала от Эллы Робайло, что Гарольд погиб в Северной Африке. Наверное, военным цензорам приходилось прослушивать каждую из этих победных пластинок, точно так же, как прочитывать каждое написанное солдатами письмо, а может, почтовое отделение Таскиги[20] не справлялось с потоком. В любом случае, когда по почте пришла эта пластинка, Бабуля решила, что Гарольд все-таки жив. «Спасибо тебе, Иисусе, спасибо», — бормотала она, заливаясь слезами от радости. Хлопнула в ладоши, складывая их, и благодарила Господа, и слышать ничего не желала про какой-то там почтовый штемпель. Мы сидели рядом с ней перед большой «викторолой» и слушали Гарольда. То была запись резкого, как жесть, звучания, и в то же время это был Гарольд Робайло, все как надо. У него все хорошо, говорил он и не скрывал радости от того, что его произвели в техники-сержанты. Он не имеет права сообщать, куда его направляют или когда, но непременно напишет, когда прибудет на место. Звучал его напевный новоорлеанский выговор: он уверен, что у Бабули все хорошо, и просит ее передать от него привет мистеру Гомеру и мистеру Лэнгли. Вот и все, чего можно бы ожидать от любого солдата в таких обстоятельствах, ничего необычного, если не считать того, что Гарольд был Гарольд, и свой корнет он держал при себе. Поднес его к губам и сыграл отбой — словно предлагая музыкальную замену собственному снимку в военной форме. Совершенство звучания корнета преодолело примитивную технику звукозаписи. Ясный, чистый, щемящий звук, и каждая фраза вознесена к несуетному совершенству. Только почему он трубил элегический сигнал отбоя, а не, скажем, зарю, обозначая свою принадлежность к армии? Бабуля попросила Лэнгли проиграть запись снова, а потом еще раза три-четыре, и, хотя мы вовсе не хотели ее расстраивать, все ж, возможно, именно эти рождающие скорбь погребальные звуки, траурная мелодия, раз за разом наполнявшая все наши комнаты, заставили ее в конце концов признать, что ее внука больше нет на свете. Несчастная женщина, успевшая пережить его смерть дважды, не могла сдержать слез. «Боже, — рыдала она, — тот, кого ты забрал, мой драгоценный мальчик, мой Гарольд».