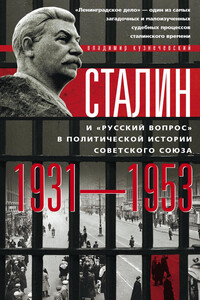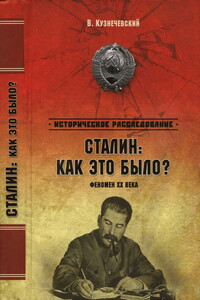Путин. Кадровая политика | страница 75
В 1937 году, сообщает справка Щаденко, по доказательной базе арестовано было 4474 командира, а по оговорам – 11104 человека, из числа которых в 1938–1939 годах было восстановлено в армии 4338 человек. Весь списочный состав командиров в 1937 году состоял из 142427 человек. Эти данные не корригируются с утверждениями, что в ходе репрессий был уничтожен «весь офицерский корпус РККА»[119], или не менее 50 %[120].
Схожая картина наблюдалась в 1938 и 1939 годах, с той лишь разницей, что в соответствии с директивой НКО СССР от 24.06.38 № 2200 из армии были уволены все инонациональные командиры, кроме евреев (поляки, немцы, латыши, литовцы, финны, эстонцы, корейцы и др.), а также уроженцы заграницы или как-либо связанные с заграницей[121].
Щаденко сообщает Ворошилову, что в ходе этих процессов в 1936–1939 годах «большое количество (командиров) было арестовано и уволено несправедливо. Поэтому много поступило жалоб в Наркомат обороны, в ЦК ВКП(б) и на имя тов. Сталина. «Мной, – пишет Щаденко, – в августе 1938 года была создана специальная комиссия для разбора жалоб уволенных командиров, которая тщательно проверяла материалы уволенных путем личного вызова их, выезда на места работников Управления, запросов парторганизаций, отдельных коммунистов и командиров, знающих уволенных, через органы НКВД и т. д. Комиссией было рассмотрено около 30 тысяч жалоб, ходатайств и заявлений. (По результатам работы комиссии) всего было восстановлено 11 178 человек»>1, то есть более одной трети от всех, подвергшихся увольнению из РККА.
Последним актом массового уничтожения Сталиным и его ближайшими соратниками управленческих кадров стало так называемое «Ленинградское дело» 1949–1953 годов. Эти репрессии упали на головы руководителей, которых собирал под своим крылом выходец из Нижегородского губкома (Горьковского обкома) ВКП(б), руководивший в войну блокадным Ленинградом, ставший в 1934 году секретарем ЦК, А. А. Жданов. В это «крыло» постепенно вошли его выдвиженцы – первый секретарь МГК и МК ВКП(б) и секретарь ЦК Г. М. Попов, председатель Госплана СССР, член политбюро ЦК Н. А. Вознесенский, секретарь ЦК А. А. Кузнецов, председатель Совмина РСФСР М. И. Родионов и др., которых позднее в судебном деле назвали «ленинградцами» (хотя все они были выходцами из разных центральных областей РСФСР).
30 сентября 1950 года в Ленинграде состоялся суд, который правильнее было бы назвать судилищем, над центральной группой фигурантов по «Ленинградскому делу»: Вознесенским Н. А., членом политбюро ЦК ВКП(б), заместителем председателя Совета министров СССР, председателем Госплана СССР, депутатом Верховного Совета СССР, действительным членом АН СССР; Кузнецовым А. А., секретарем ЦК ВКП(б), членом оргбюро ЦК, начальником Управления кадров ЦК партии, депутатом Верховного Совета СССР; Родионовым М. И., председателем Совета министров РСФСР, кандидатом в члены ЦК ВКП(б), членом оргбюро ЦК ВКП(б), депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР; Попковым П. С., первым секретарем Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), кандидатом в члены ЦК ВКП(б), депутатом Верховного Совета СССР; Капустиным Я. Ф., вторым секретарем Ленинградского горкома ВКП(б), депутатом Верховного Совета СССР; Лазутиным П. Г., председателем исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, депутатом Верховного Совета СССР. Спустя час после оглашения приговора они были расстреляны, тела их зарыты на Левашовской пустоши под Ленинградом и засыпаны негашеной известью. И. М. Турко, Т. В. Закржевскую и Ф. Е. Михеева осудили на длительное тюремное заключение.