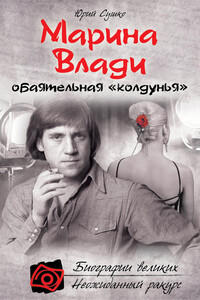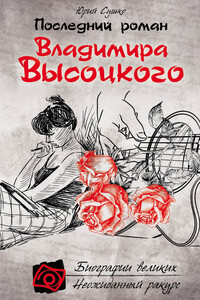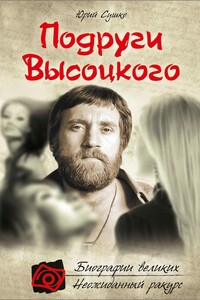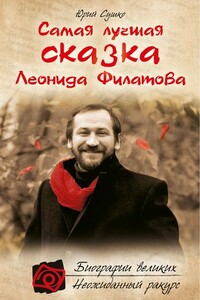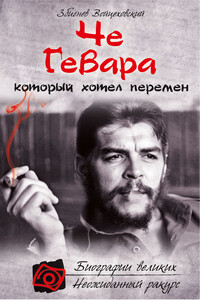Святые и порочные | страница 46
Вот и еще одно житие святых в современном переложении прочитано. И снова вопрос – все ли правда здесь?
Еще в XIX веке историки попытались привести житие Константина Муромского в соответствие с иными источниками. Однако названные в житии даты, разнящиеся в разных редакциях (например, прибытие Константина обозначено в них 1192-м, 1215-м и 1223 годами), а кроме того, фразы о двух столетиях между крещением Киева и крещением Мурома (как и о том, что крещение Мурома «вскоре после святого Владимира») никак не сходились ни между собой, ни с тем, что написано в сохранившихся летописях.
Дело в том, что никогда и нигде не упоминался применительно к Мурому князь Константин. А имя жены его – Ирина – позаимствовано автором жития у супруги Константина, но не муромского князя, а византийского императора.
В означенный в житии период, то есть в 1192–1232 годах, согласно летописям в Муроме правили совсем другие князья. Не буду перечислять всех, достаточно одного – Давыда Юрьевича. Того самого, который княжил в 1203–1228 годах и которого вместе с его супругой старательно отождествляют со святыми Петром и Февронией. Странно, однако, что, хотя и Петр с Февронией, и Константин с сыновьями жили, получается, в одно и то же время в одном и том же месте и канонизированы одним церковным собором 1547 года, жития их в текстах своих никак не пересекаются.
К этому моменту мы еще вернемся, но сначала посмотрим – кого из реально существовавших князей отождествляют со святым Константином. В XIX веке перед авторами трудов по истории Русской православной церкви встал вопрос: кто такой Константин? По житию, его родословная берет начало от Владимира Святого, отца его звали Святославом, но ни в одной летописи никакого Константина Святославича нет. К слову, Никоновская и Воскресенская летописи приписывают крещение Мурома самому Владимиру Святому (с различием лишь в том, что Никоновская говорит обо всей Муромской земле, а Воскресенская – только о городе). Поиск среди известных потомков крестителя всея Руси по затейливой кривой вывел на муромского князя Ярослава Святославича, внука Ярослава Мудрого и правнука Владимира Святого, родоначальника всех муромских, рязанских и пронских князей.
Ярослав Святославич князем был не слишком выдающимся. Впервые упомянут был в летописях под 1096 годом, когда вместе с братом неудачно поучаствовал в борьбе за ростовский престол, после чего и оказался в Муроме – отсиживался, вовсе не мечтая о том, чтобы кого-то там крестить. В 1110 году «прославился» поражением от мордвы. В 1123 году Ярославу наконец повезло заполучить по старшинству черниговский престол, но всего четыре года спустя его согнал оттуда собственный племянник. Вернуть Чернигов не удалось – поддержавшие его поначалу князья в итоге договорились с «захватчиком», поход не состоялся, и Ярослав ни с чем вернулся в Муром, где и умер спустя два года. После смерти Ярослава Муромо-Рязанская земля разделилась. В Муроме отца сменил старший сын Юрий, который правил здесь до своей смерти в 1143 году. Средний сын Святослав вокняжился в Рязани, после смерти брата перешел в Муром, но и сам скончался через два года. Младший из братьев, Ростислав, стал первым пронским князем, потом перешел в Рязань, а после смерти Святослава занял престол в Муроме и княжил до своей смерти в 1153 году. Однако вернемся к необъяснимому тождеству Ярослава и Константина.