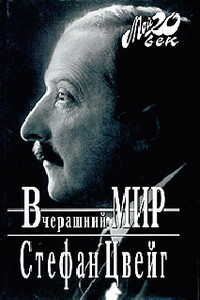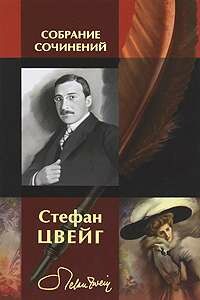Двадцать четыре часа из жизни женщины | страница 47
Я продолжал стоять на месте, не испытывая никакого желания последовать за ними. Эпизод был для меня завершен; чувство эротического напряжения приятно разрядилось в веселое настроение; возбуждение совершенно покинуло меня, не оставив никаких следов, кроме здорового ощущения сытости, – утолена была моя внезапно прорвавшаяся злоба, – следа наглого, почти шаловливого удовлетворения тем, что проделка удалась.
Впереди тесно сгрудились люди, волнение уже начинало клокотать и напирать в виде мощной, грязной, черной волны на барьер, но я совсем не смотрел в ту сторону: я уже начинал скучать и подумывал о том, чтобы прогуляться по Криау или поехать обратно. Но едва лишь я непроизвольно ступил ногой вперед, как заметил синий талон, забытый на земле. Я поднял его и держал, теребя, в руке, не зная, как с ним поступить. Смутно возникла у меня мысль возвратить его Лайосу, что могло бы послужить превосходным поводом к знакомству с его женой; но я чувствовал, что она меня больше не интересует, что недолгий зной, которым пахнуло на меня это приключение, давно остужен моим старым равнодушием. Большего, чем этот борющийся, вызывающий обмен взглядами, я не требовал от супруги Лайоса, – толстяк был мне все же слишком противен, чтобы я мог делить ее тело с ним, – нервный трепет я вкусил и теперь ощущал уже только спокойное любопытство, приятную разрядку.
Стул находился все там же, покинутый и одинокий. Я удобно развалился на нем, закурил папиросу. Передо мною опять начиналось бушевание страстей, я даже не прислушивался: повторения меня не прельщали. Я спокойно смотрел на стлавшийся табачный дымок и думал о Меранском Гильфе, где я двумя месяцами раньше смотрел на брызжущий водопад. Это было совсем как здесь: тот же бурно возраставший гул, от которого не становилось ни тепло, ни холодно, то же бессмысленное звучание среди молчаливого синего пейзажа. Но в этот миг азарт достиг апогея, снова замелькала над черным людским прибоем пена зонтиков, шляп, криков, платков, снова слились голоса воедино, снова из гигантской пасти толпы вырвался – иначе только окрашенный – возглас. Я слышал одно имя, тысячекратно, с ликованием, звоном, экстазом, отчаянием провозглашаемое: «Кресси! Кресси! Кресси!» И снова, как натянутая струна, оно оборвалось (какую монотонность сообщает повторение даже страстям!). Заиграла музыка, толпа расползлась. Взметнулись доски с номерами победителей. Я безотчетно взглянул на них. На первом месте стояла семерка. Машинально посмотрел я на синий талон, оставшийся у меня в руке. На нем тоже стояла семерка.