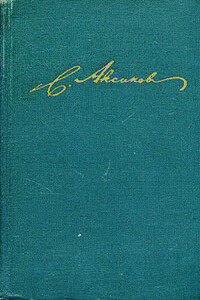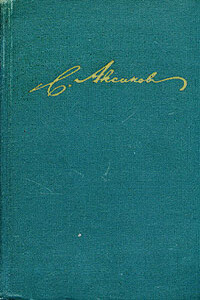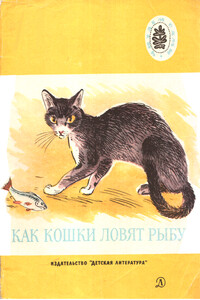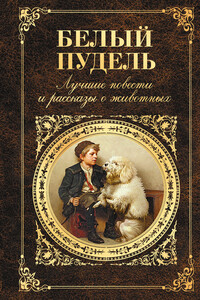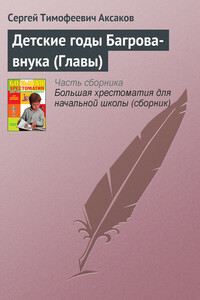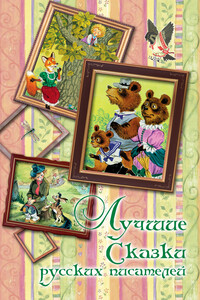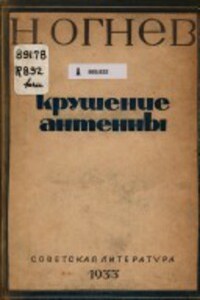Том 1. Семейная хроника. Детские годы Багрова-внука | страница 23
Освободившись от должности директора Константиновского межевого института, Аксаков решил окончательно выйти в отставку и зажить «свободным человеком». После смерти отца (1837 г.) он унаследовал изрядное хозяйство, которое в общей сложности теперь составляло около 850 крепостных крестьян и несколько тысяч десятин земли. В большом барском доме Аксакова в Москве с его обширным двором, людскими, набитыми прислугой, садом и даже баней в саду царила атмосфера патриархальной, помещичьей жизни. В числе постоянных гостей здесь бывали Гоголь и Тургенев, когда они приезжали в Москву, Щепкин, Киреевские, Погодин, Шевырев.
С начала 40-х годов в общественной жизни России происходят заметные перемены. Повсеместное обострение социальных противоречий, мощный подъем антикрепостнического, освободительного движения – все это чрезвычайно активизировало политическую обстановку в стране. Это возбуждает в Аксакове стремление глубоко осмыслить различные явления действительности. Постепенно и как бы незаметно для себя он все больше вовлекался в сферу политических интересов.
В то время в русском обществе начинается процесс идейного размежевания. В одном лагере оказываются идеологи «официальной народности», славянофилы, либеральные западники, которых, несмотря на известные различия, сближала боязнь активной творческой силы народа, ненависть к революции; в другом – молодая революционная демократия, возглавляемая Белинским.
Наиболее видными деятелями славянофильства в 40-е годы были старший сын писателя – Константин Аксаков, Хомяков, Иван Киреевский, Самарин. Основой славянофильской доктрины являлось признание особых исторических путей развития России, «призванной спасти человечество» от политических катастроф и революционных потрясений, которыми угрожает миру Запад. Главная предпосылка успешного выполнения Россией этой миссии состояла, по мнению славянофилов, в незыблемости феодально-помещичьего строя, монархической власти и православной веры, которую они считали источником «духовной силы» народа. Славянофилы были, по верному определению Белинского, «витязями прошедшего и обожателями настоящего». Идеалистическая философия истории славянофилов была связана с их фальшивым народолюбием, с их реакционным представлением о русском народе, в котором они видели воплощение кротости и религиозного смирения. И хотя в речах и статьях славянофилов содержались порой элементы критики тех или иных сторон самодержавно-бюрократического строя, хотя некоторые из них даже подвергались преследованиям и репрессиям со стороны царского правительства – все это не колеблет общего вывода о политическом характере этого течения. Вспоминая в эмиграции битвы против славянофилов, Герцен писал: «…мы должны были враждебно стать против них. Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви».