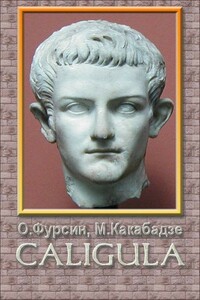Сказка о семи грехах | страница 54
— Ты, сын крестьянский? И ты не святой. Как в поле выйдешь, так рядом с собой в труде меня и поломаешь. Не ты, так другой, отец твой аль дед. Помнишь, как по бедности твоей впрягались в ярмо вместе? Я уж и на сносях была, а ты не жалел. Что бабу жалеть, у ней девять жизней, как у кошки. А вот и нет. Осталась я в поле, изошла кровью своей, как родить пришлось. Да и как иначе? Бил ты меня, и в живот тоже. За то, что нечестная была. А знал ведь: честная, тебя честней. Этот-то, что барином зовется, он не спрашивал, когда завалил в сенях. Ему захотелось, он свое взял. Ты на мне выместил…
Знал я: правда. То о бабке моей Арина сказывала. Отцовской матери.
И не о себе она все это. О многих женщинах. Но всё правда.
Смотрел я на нее, и жалел; а себя-то жалел даже больше, чем ее.
Жизнь прошла, а Ее в ней и не было…
А она вдруг — поникла. Устала, что ль. Плечи опустила, и головой тоже к долу склонилась.
Молчали все, верно, побаиваясь, что о каждом из Адама сынов знает она стыдное, и скажет. Коль ее не тронуть, так, может, и пронесет мимо.
И напоследок сказывала, вроде и тихо; только показалось мне, что в колокол церковный забила. Загудело, поплыло в ушах: бом! бом!
— И так-то всегда: отрекаетесь от меня. В любом обличье. Нехороша я вам. Только без Женщины не справиться вам сегодня, как и всегда не можете. Говорю вам: поднимайтесь. Настал час…
Послесловие
Вспоминать то, что было дальше, трудненько мне. Не потому, что уж совсем плох стал от старости, оно так, конечно; но и не вовсе же плох.
А потому, что круговерть такая закружилась, поди, запомни ты ее…
Помню, у самой у церкви, на ступеньках, верно, ждал нас странник. Именно что ждал. Мы к церкви бежали все, кто как мог. Он бы должон удивиться. А только не удивлялся, высматривал и ждал.
Святой человек, странный и странний[32].
В домодельном кафтане, рубаха белая, на ногах лапти да онучи, на икрах перекрещенные.
А мы-то! Впереди Данила с Григорием, в белых бурнусах. За ними Арина в сарафане черном, с черным же платом в руках, над головою ворон кружит, пурпурно-черный.
Священник, тот еще молод, горазд бегать, рясу за полы держит, несется.
Следом немец с телешкопом; задыхается, но трубу свою исправно тащит; чучелом одет: почти во фраке, только фалды покороче.
Барин в одежде городской, порты в обтяжку.
Ну, и я, в рубахе холщовой, препоясанной, в лаптях да онучах тоже.
На лицах страх, пот градом со лба…
Споткнулись мы об него, об странника-то, с его спокойствием.