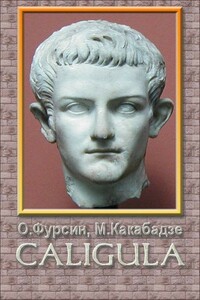Сказка о семи грехах | страница 50
Установили его на холме с площадкой ровною на верхушке. И, как уж совсем тепло, барин диспозицию выстроил.
На холме шатер. В шатре барин. Совет у него, «в Филях» называется почему-то. Я спросил, барин обругал. То-то, сказывает, глупый ты, брат молочный. Не стал объяснять.
А в совет входят немец-перец, я, когда и Данила-зодчий, Григорий. Иной раз отец Адриан появится.
И телешкоп. Выйдет барин из палатки расписной, руки за спину. Важно так к телешкопу. Немец трубу с неба вниз устремляет. С небесного, то есть, на земное переведет. Барин округу рассмотрит: «Ничего нет», — скажет, — «Ерема, брат». Вот и вся диспозиция. Вроде той, что папенька выстроил, когда Кутузова спасал на Бородинском-то поле. Войну выигрывал.
А в шатре у барина постель походная. Столик походный. Таскайся, значит, на холм с горшками: покормить. И этот… тен… тирр… Тирариум. Тенрариум. Нет, террариум.
Жабу там барин поместил. Жаба как жаба, только огромная. Бурая, с лиловым оттенком, иной раз фиолетовая, ну али коричневая, с пятнами темными. Изменчива. Большая жаба-то и противная. Ага называется. Своих на Рассее будто бы жаб нет. Везли издалека красоту такую-то… тьфу, нечисть! Бородавчатая нечисть.
Барин мое к ней, к жабе-то, отношение заметил. Ты, сказывает Ерема, темный человек. А жаба эта мое оружие секретное. Но как есть тайна военная, так не скажу.
Тоже, оружие секретное. Жаба как жаба, больше наших. Сидит себе в ящике целый день. Забросит немец ей то жука, то кузнечика, то муху, а то и мяса кусок. Она его хвать… съела. И лежит, глазами моргает. Вся её забота.
В тот день, ближе к вечеру, был «большой совет в Филях». И носились на холм холопы с яствами; и налито было в чарки всем. Ели-пили. Все о том и судачили, что не должна бы достаться Черту последняя шаль. А лежала она уж не в избе. Трошкина матушка ее отдала, от греха подальше. Отцу Адриану и отдала. И поместили ее в церковь построенную. И отчитал[31] ее отец Адриан. Не испрашивая соизволения архиерейского. И так-то объяснил батюшка:
— О жизни человеческой речь идет, для всякого священной. Господь простит. И, может, не одной жизни. Коли сложилось так, не успокоится лукавый. Не даст церковь освятить. Не даст миру жить. Не впервой мне так-то. Не дали дозволения мне, а знали, что могу больше иных. Негласно и послали, на авось, зная, что не отступлю. В эдакую-то глушь, из Петербурга, как не сказать: сослали. А я и рад. Днесь тут главное место мое: чую, схлестнемся мы с ним, с лукавым. Ничего, Господь с нами. Кто ж противу нас?