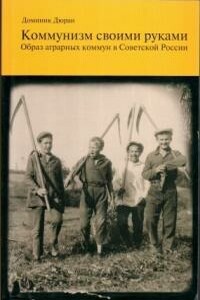Дело Живаго. Кремль, ЦРУ и битва за запрещенную книгу | страница 32
Несколькими непокорными жестами Пастернак поставил себя под большой риск. Когда в начале 1937 года Н. И. Бухарина поместили под домашний арест, Пастернак послал записку — не сомневаясь, что ее прочтут другие, — в его кремлевскую квартиру. В записке было сказано: «Никакие силы не убедят меня[129] в том, что вы предатель». Бухарин, практически приговоренный к смерти, прослезился от этого выражения поддержки, и сказал: «Он написал это против себя самого». В 1937 году, во время следствия по делу поэта[130] Бенедикта Лившица, которого впоследствии казнят как врага народа, фамилию Пастернака включили в список писателей, которые считались возможными кандидатами на арест.
В июне 1937 года Пастернака попросили подписать петицию в поддержку смертного приговора группе военных, в число которых входил маршал Тухачевский. Когда представитель СП приехал к нему на дачу в Переделкино, Пастернак выставил его с криком: «Я ничего не знаю о них, не я дал им жизнь[131] и не имею права отнимать у них жизнь!» За отказом последовали дальнейшие нападки со стороны руководства СП, возглавляемого одиозным Ставским, который кричал на Пастернака и угрожал ему. Зинаида, ожидавшая в то время ребенка, упрашивала его подписать. «Она валялась у меня в ногах и умоляла не губить ее и ребенка, — вспоминал Пастернак. — Но спорить со мной было бесполезно». Он сказал, что написал Сталину о том, что вырос в «толстовских убеждениях», и добавил: «Я не считал, что уполномочен быть судьей чьих-то жизни и смерти». Затем он лег в постель и сладко заснул: «Так всегда случается после того, как я сделал безвозвратный шаг». Наверное, Ставского больше, чем сам отказ поэта, взбесила своя неудача — ему не удалось заставить Пастернака повиноваться. Когда на следующий день появилось письмо с требованием смертной казни, под ним, в числе прочих, стояла и подпись Пастернака. Он бушевал, но опасность ему не грозила.
Пастернак не мог объяснить, почему остался в живых. «В те ужасные кровавые годы[132] арестовать могли кого угодно, — вспоминал он. — Нас тасовали, как колоду карт». Он жил в страхе: как бы кто-то не поверил, что он каким-то образом участвовал в заговоре, чтобы спасти себя. «Казалось, он боялся[133], что само его выживание могут приписать недостойным попыткам унять власти, пошел на подлый компромисс, предав самого себя, чтобы избежать казни. Он все время возвращался к этому и доходил до абсурда, отрицая, что он способен был к поведению, в котором никто из знавших его не мог его заподозрить», — писал Исайя Берлин. Очевидной логики в действиях властей не было. Илья Эренбург спрашивал: