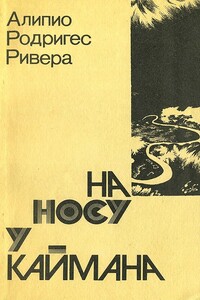Десять посещений моей возлюбленной | страница 35
А у Арыниных, у тех ульев сорок – па-а-асека. Ваське не позавидуешь.
Я, как и Васька, не люблю ходить за пчелами. Как наказание. Слежу и за роями. Не по собственному, конечно, желанию. Не из любопытства и любознательности. По принуждению. С избы. Пункт наблюдательный на крыше. И загораю заодно там.
Папка под навесом. В красной клетчатой рубахе навыпуск. В калошах на шерстяной носок. В носки заправлены штанины – чтобы мошка не лезла вездесуш-шая. В кепке. Когда-то черной, теперь бурой – так она выцвела от времени – демисезонная. Сидит он, папка, на чурке. Спиной ко мне. Ржавые гвозди из старых досок выдирает. Все вытащит, выпрямлять их, прикусив от усердия губы, на обухе топора молотком станет. Гвоздей этих у нас – хоть открывай торговлю ими – колониальную. Есть еще кованые – вовсе древние. Папка их, четырехгранные, ценит дорого – на вес золота они у него. Шляпки у них широкие, дескать, – забивать куда будешь, не промажешь, и не сгибаются, чуть тока тюкнешь по нему… как нонешные – это… и чё в них за металл?.. Будто люминий. Лежат они, граненые, в отдельном ящике. На случай.
На какой?
Мама интересуется, переживая: «Ты их на чё, Коля, копишь?.. Эти закорюки. На какое лихолетье?.. Досок не наберешь по всей Ялани, все вколотить-то; только – в землю».
Один на то ответ у папки:
«Запас кармана не дерет, баба, сгодятся… Веш-то оне – необходимая. Чё с имя будет – не прокиснут. Ходить – за них не спотыкаться. Лежат себе да и лежат».
«Что не прокиснут, это точно… Но хлам-то всякий собирать?..»
«Опять и выдумат, опять и ляпнет… Уж гвозди в хлам определила. Тогда и чё, по-твоему, не хлам, мне объясни-ка».
«Да ведь не это же жалезо. Пуд их уже насобирал».
«Чё понимала бы… туды жа».
Безветренно. Висит на веревке белье – как мертвое; сморщилось – как от удушья.
Жара. Градусов сорок. В тени. На солнце – с лишним – обед без печки приготовить можно. Глазунью – точно.
На провисших электрических проводах, рассевшись тесно, ласточки щебечут. Ввысь не взмывают – стерегутся.
Вверху – только коршун. В заоблачности. Как черточка передвижная. Тому и зной не препона. И не страшится крылья опалить. Как безрассудный. Перья не воском склеены, а то бы… Марфа Измайловна бы так сказала: «Летат, хишный, канючит – у Божаньки пить клянчит. Иной воды не потреблят, кромя́ как тока дожжэвую. А заодно выискиват цапушек, будь он неладен… карауль тут. Камнем падет – не уследишь. Схватит цапленочка и молонней умчится… На то он создан, чё поделашь». – «Здря тока стонет: чё поделашь!.. Взяла бердану-то да шибанула бы. Или своим убоистым аружьем – таким-то страшным. Чё, язычишком не пульнешь?» – не пропустил бы мимо ушей, не упустил бы возможности съязвить на это добродушно Иван Захарович. Обычно. Как день с ночью меняются – обязательно. Добавил так бы: «Ох, и дура». Это – любил ее он, дедушка Иван бабушку Марфу, очень – после Рыжий пояснил мне. Привык он, дескать, к ней – как к трубке. Одну – из рук и изо рта, другую бы из глаз не выпускал, мол, с языка.