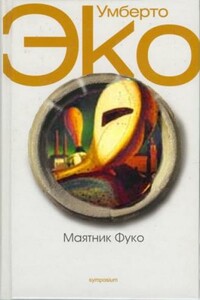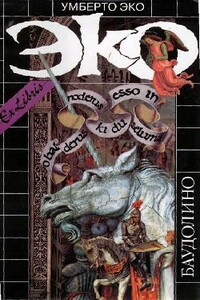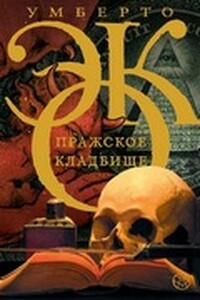О литературе | страница 14
Истоки этой страсти к свету – в теологии, восходящей, в свою очередь, к древней платонической и неоплатонической традиции (концепция добра как солнца, простая красота цвета, преодолевающая темную материю, видение Бога как Светильника, Огня, Светоносного Источника). Теологи превращают свет в метафизический принцип, и так как в эти века – не без арабского влияния – развивается оптика, она порождает размышления о чудесной радуге и отражениях (смутно таинственные зеркала там и тут появляются в третьей песни).
Итак, Данте не изобрел, играя с переменчивой материей поэзии, свою собственную поэтику света. Он взял ее из окружающего мира и интерпретировал для читателей, которые обожали цвет и свет. Если прочесть одно из самых замечательных исследований дантовского “Рая” (“Аспекты поэзии Данте” Джованни Джетто, 1947), становится ясно, что в рае Данте нет ни одного образа, который бы не восходил к традиции, знакомой средневековому читателю, и я имею в виду не отвлеченные идеи, а повседневные фантазии и чувства. Именно к библейской традиции и Отцам Церкви отсылают все эти сияния, огневые вихри, лампады, солнца, вся эта ясность и блеск, “подобный горизонту пред рассветом”, все эти белоснежные розы и багряные цветы. Как говорил Джетто: “У Данте в распоряжении была лексика, точнее, уже сложившийся язык для выражения реальности духовной жизни, мистического опыта души, переживающей катарсис, удивительную радость благодати, прелюдию радостного и священного периода”. Средневековый человек читал про этот свет примерно так же, как мы мечтаем о мимолетной благосклонности какой-нибудь кинодивы или представляем изящный корпус дорогого автомобиля, грезим об утраченной любви или возлюбленных, кратких встречах, увядших листьях, склянках, безделушках и духах, только со страстностью и душевным содроганием, нам неведомыми. И это ученая поэзия и диалог между учеником и учителем?!
Рассмотрим второе ложное предубеждение, будто не существует истинной поэзии в ученых стихах, будто можно трепетать, только читая о поцелуе Паоло и Франчески, а не об архитектуре небес, природе Троицы, о вере как основе надежды и аргументах в пользу существования незримого. Именно призыв читать поэзию ума может сделать “Рай” привлекательным и для современного читателя, который с трудом поймет отсылки, ясные для его средневекового собрата. Зато у современного читателя было время, чтобы познакомиться с поэзией Джона Донна, Элиота, Валери или Борхеса, и он знает, что поэзия бывает метафизической.