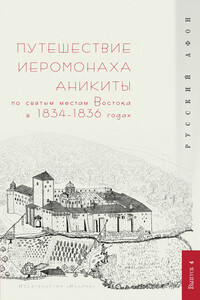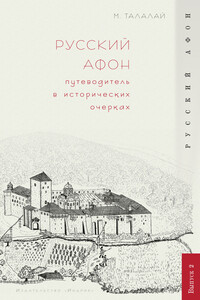, дающий так мало простора индивидуальным расположением, даже нередко хорошим, может быть более всего другого упражняет волю инока ежечасными понуждениями и смиряет его своенравие, заставляя иногда даже и движению любви и милосердия – предпочесть послушание начальству или уставу. – Поживши я понял скоро и сам всю душевную, психологическую, так сказать, важность всего того, что многие, по грубому непониманию, зовут «излишними внешностями». – Но и понявши, я продолжал дивиться, как такая, выражаясь по-нынешнему, „нервная“ натура смогла подчиниться всему этому так глубоко и так искренно!»
[143]. И ничто не нарушало этих идеальных отношений ученика к учителю: ни разность их сана и положения (о. Макарий был архимандритом и игуменом, а о. Иероним до смерти удерживал за собою скромный титул «иеросхимонаха» духовника), ни даже те «жестокие искусы», которым последний подвергал своего ученика. «Я, – пишет тот же очевидец, – видел их вместе в начале семидесятых годов, видел сыновние отношения
архимандрита [т. е. о. Макария] к своему великому старцу [т. е. о. Иерониму]; знал, что он уже и тогда, избранный в кандидаты на звание игумена в случае кончины столетнего старца Герасима, безусловно повиновался о. Иерониму и нередко получал от него выговоры даже и при мне»
[144]. Эти-то «выговоры» и были «тяжелым искусом» для о. Макария, так как большею частию проступки его вытекали непосредственно из глубины его доброго впечатлительного сердца, весьма чуткого к горю и радости своего ближнего, и с обычной точки зрения не только не заслуживали порицания, а напротив, должны бы быть одобряемы и награждаемы. Наблюдательный и правдивый биограф о. Макария, неоднократно нами цитируемый, К. Леонтьев, приводит весьма характерный случай подобного искуса.
«Однажды, – рассказывает он, – пришлось архимандриту Макарию, по особому случаю, служить (не помню в какой праздник обедню за чертой Афона[145] на ватопедской башне. Башня эта, служившая когда-то крепостью для защиты монашеских берегов, теперь имеет значение простого хутора или подворья какого-то, принадлежащего богатому греческому монастырю Ватопед. В башне есть очень маленькая и бедная домовая церковь. В ней-то и совершил о. Макарий литургию в сослужении молодого приходского греческого священника из ближайшего селения Ериссо… Он с молодым священником, приглашенным для совместного с ним служения, не только обошелся как нельзя ласковее, но даже на прощание подарил ему для его приходской церкви очень красивые и совсем новые воздухи белого глазета с пестрым шитьем. (О. Макарий привез их с собою, зная, до чего убога церковь на этой заброшенной башне.) Когда, по окончании обедни, мы сели – он на мула, я на лошадь свою и поехали обратно в Руссик, о. Макарий сам сознался мне в этом добром деле своем, небольшом, конечно, по вещественной ценности, но очень значительном по нравственному смыслу, (ибо это был дар святогорца представителю враждебного святогорцам селения). Отец Макарий сказал мне с тем весельем и сияющим умом и добротой выражением лица, которое я так любил: