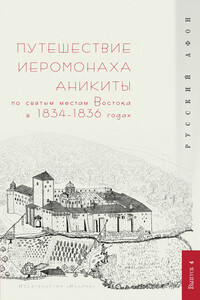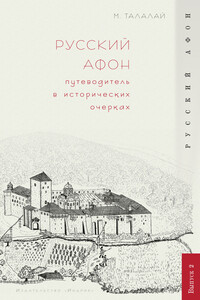: человеком с великой душою и
необычайным умом. Родом из не особенно важных старооскольских купцов
[65], не получивши почти никакого образования, он чтением развил свой сильный природный ум и до способности понимать прекрасно самые отвлеченные богословскиея сочинения, и до уменья проникаться в удалении своем всеми самыми живыми современными интересами. Твердый, непоколебимый, бесстрашный, предприимчивый; смелый и осторожный в одно и то же время; глубокий идеалист и деловой донельзя: физически столь же сильный (?), как душевно; собою и в преклонных годах еще поразительно красивый. Отец Иероним без труда подчинял себе людей, и даже замечал, что на тех, которые сами были выше умственно и нравственно, он влиял еще сильнее, чем на людей обыкновенных. Оно и понятно. Эти последние, быть может, только боялись его; люди умные, самобытные, умеющие разбирать характеры, отдавались ему с изумлением и любовью». «Я, – говорит К. Леонтьев, – на самом себе, в 40 лет испытал эту непонятную даже его притягательную силу. Видел это действие и на других»
[66]. «Отец Иероним был человек железной воли по преимуществу. Его внутреннее „самование“
[67], вероятно, имело целью прежде всего смягчить свое сердце, сломать, смирить свою
по природе гордую волю. Возможно также, что именно с намерением отстранить от себя все искушения власти над чем бы то ни было он так упорно и долго отказывался от иеромонашества и в России и на Афонской Горе, и только самое строгое повеление его святогорского наставника, старца Арсения, вынудило его принять хиротонию… Отец Иероним был до того всегда
покоен и невозмутим, что я, – замечает К. Леонтьев, – имевший с ним частые сношения в течение года с лишком – ни разу не видал –
ни чтобы он гневался, ни чтобы он смеялся, как смеются другие. Едва-едва улыбнется изредка, никогда не возвысит голоса, никогда не покажет ни радости особой, ни печали. Иногда только он немного посветлее, иногда немного мрачнее и суровее. А между тем он все чувства в других понимал, самые буйные, самые непозволительные и самые малодушные. Понимал их тонко, глубоко и снисходительно. Все боялись его и все стремились к нему сердцем»
[68].
Вид русского монастыря св. великомученника Пантелеимона на Святой Афонской Горе с южной стороны снятый с натуры. Издание в пользу монастыря. 1858 г.
Вот в руки такого-то опытного духовника-старца, человека с сильным характером и редкою жизненною выдержкою, таланта-самородка, стоявшего целой головою выше всех его окружающих, вверило Провидение судьбы русского Пантелеимоновского монастыря, доведенного до крайнего убожества и едва не вычеркнутого из списка святогорских обителей. Вера в лучшее будущее русского монастыря, обаяние личности духовника и глубокого старца игумена Герасима, окруженных ореолом высоких качеств ума и сердца среди тогдашних насельников Святой Горы, а главное безотрадное положение русских людей среди иноков других национальностей – все это, вместе взятое, было достаточным побуждением для этих последних, оставив свои бедные калибки и естественные пещеры, искать себе приюта в бедной, но гостеприимно открывшей свои двери русской Пантелеимоновской обители. В непродолжительное время около о. Иеронима обра зова лась довольно значительная кучка русских людей, отдавших себя в безусловное подчинение беззаветно любимому ими опытному духовнику и игумену монастыря, искренно желавших все силы свои посвятить на благо обители. Нелегкая задача предстояла о. Иерониму, если не слить два разноплеменные и разнохарактерные элемента в одно целое, то благоразумными внушениями примирить их, так как предыдущий опыт при о. Аниките показал, что без взаимных уступок жизнь совместная греков и русских под одною кровлею была немыслима. Отдавая предпочтение грекам в обители, как некоторого рода хозяевам, он постоянно внушал русской братии, чтобы они не входили в споры и разногласия с греками, а стремились бы к той цели, ради которой пришли в монастырь, т. е. к спасению своей души, для чего необходимы мир и братская любовь. Строгий киновиальный образ жизни монахов русского Пантелеимоновского монастыря