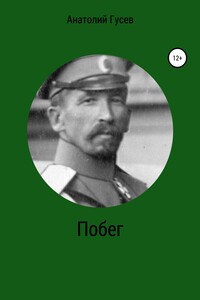Баба Яга пишет | страница 26
Но об этом я тоже молчала во дворе. И мы, перекрикивая друг друга, рассказывали о женщине «во всём белом», которая после смерти разбудила мужа во время пожаров, чтобы спасти детей, и о девочке, которая «узнала» «свой» дворец, в котором жила в прошлой жизни, о чёрной руке и пирожке с пальцем…
А Галька уже под вечер пела в беседке, со всех сторон заросшей подорожником, пела без малейшей веселинки:
Её даже взрослые приходили послушать, а дядя Миша Грязнов один раз плюнул, а на другой – полтинник Гальке подарил.
Соловьиный сад
Я всегда ждал чуда от деда. В ту же минуту, когда он – высокий и ясный – вместе с утром входил ко мне в комнату, уже ждал.
– Здорово, бродяга! – рычал он в ухо или загривок – куда придётся, как поймает меня, прыжком ринувшегося с кровати, чтобы его обнять. Когда-нибудь, совсем скоро, мы снарядимся с ним в дальний поход. Взберёмся на гору, где свистнул рак. Поздороваемся за руку со снежным человеком. Загарпуним самую прожорливую – тигровую – акулу.
Ездить с ним в сад и то было счастьем. Так получалось – ездили только вдвоём. Вначале рысью бежали в «Колобок» и добывали там самый загорелый рыбный пирог – надколешь зубом корочку, а внутри – белые лепестки пресного хека, проложенные молочно-зелеными слезинками лука. Из жёлтой бочки возле гастронома № 6 нам наливали в бутылку пузырчатый квас. Всю дорогу на лязгающей электричке живот радостно ныл от голода. В садовом домике мы тут же раскладывали снедь на столе, покрытом газетой, дед резал пирог на квадратики, наливал квас в алюминиевые кружки. Мы ели, смотрели в окошко и смеялись. Над свёклой, сочная ботва которой вдруг деловито вылезла на клумбе, вместо каких цветов – дед и сам забыл. Над щенком Боливаром, страдающим от неистовых попыток нашего соседа дяди Миши научить его выгавкивать: «Укррроп». И ещё мы прислушивались: ну как, не запели?
Сад у нас был Соловьиным. Однажды дед убирал сорняки возле крыжовника – три куста за домом почти по пояс стояли в траве. Мне нравилось смотреть на серп в его руке – в хищном, широком изгибе я находил благородство и удаль настоящего оружия. Потный дед в парусящихся трусах орудовал им сосредоточенно, как боец. Вдруг он распрямился и поманил меня. Я кошкой просквозил к нему между грядками с луком. Кончиками пальцев дед разобрал зелень на макушке одного из кустов – в просвете листочков на тоненьких ветках, растущих кучно, веником, небрежно лежало гнездо, а в нём ютились четыре яйца. «Соловейкины, – шепнул дед, улыбаясь.