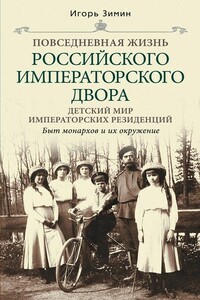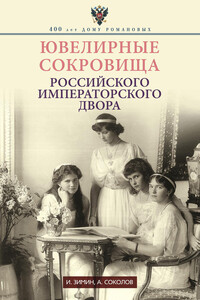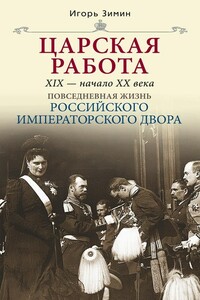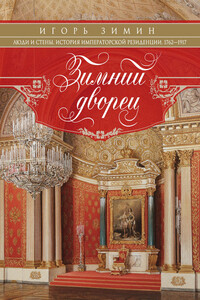Двор российских императоров. Том 2 | страница 70
И. И. Воронцов-Дашков
Судя по воспоминаниям генерала Н. А. Епанчина, во второй половине 1880-х гг. Александр III решил негласно завести нескольких помощников, «достойных полного доверия». На эту роль он выбрал, естественно, ближайших соратников: графа И. И. Воронцова-Дашкова, занимавшего должность министра императорского двора; генерал-адъютанта О. Б. Рихтера, занимавшего ранее должность командующего Императорской главной квартирой, и генерал-адъютанта П. А. Черевина, возглавлявшего охрану Александра III. Главной их задачей было помогать императору «разбираться в докладах и отчетах»>161. Александра III с вышеперечисленными лицами связывали многие годы совместной деятельности, и он был полностью убежден в их преданности и порядочности.
Следует подчеркнуть, что все трое предполагаемых помощников Александра III были категорически против предложения составить негласный секретариат императора. Доложив императору, что выполнят любое его приказание, они при этом сочли своим долгом заявить, что подобное решение представляется им «не только неудобным, но и опасным». По мнению И. И. Воронцова-Дашкова, О. Б. Рихтера и П. А. Черевина, учреждение негласного секретариата невозможно будет сохранить в тайне. В результате министры воспримут новый порядок как знак недоверия к ним. Кроме того, в обществе пойдут разговоры и пересуды, «сочтут, что новый порядок есть ограничение самодержавной власти монарха в пользу триумвирата; получится впечатление, что вместо самодержавного монарха Россией правит олигархия. Но государь настоял на своем решении, и оно было приведено в исполнение»>162.
Личный секретариат был создан и начал работать. Император передавал генералам те доклады и отчеты, по которым он желал знать их мнение. Однако, несмотря на всю конспирацию, о работе «подпольного» секретариата стало известно в обществе. Естественно, пошли сплетни, «именно в том духе, какой нетрудно было предвидеть». Члены негласного комитета сочли необходимым доложить об этом Александру III, и он был вынужден согласиться со своими соратниками. «И вы меня покидаете», – упрекнул он их, но иначе поступить они не могли>163. В результате Александр III до конца жизни так и тащил воз бюрократических проблем, причем их значительная часть только по традиции требовала высочайших резолюций.
Николай II во всем стремился походить на отца. При этом в основе подражания лежало не слепое копирование, а единство их взглядов на прерогативы российских монархов. Когда в октябре 1894 г. цесаревич Николай Александрович в одночасье превратился в Николая II, министры немедленно «запрягли» молодого царя в «бюрократическую телегу». И когда он осознал объемы ежедневной работы и уровень ответственности, обрушившейся на него, то был просто в панике.