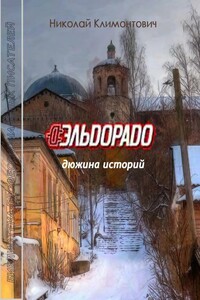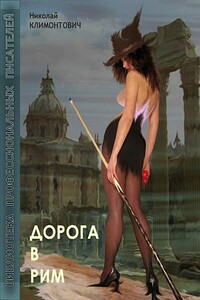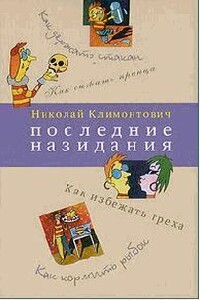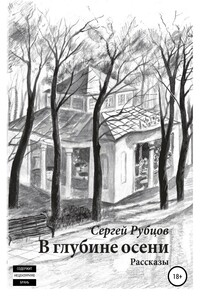Парадокс о европейце | страница 93
Получив известие о смерти брата, Мороховец-старший зачастил на Покровку, к Нининому самовару, как он выражался. И как ни занят был Иозеф, он проводил праздные вечера с Борисом. Тот оправдывался, что отрывает:
– Дома после гибели Юлика и поговорить не с кем. Ирочка не любит моих разговоров. Только шепчется со своей белочкой и пичкает ее орешками от Елисеева.
Говорили, конечно, о войне, но часто разговор расползался шире.
– Эти судорожные метания от идеи Третьего Рима к самоуничижению просто измучили так называемый думающий класс. Эти душераздирающие вопли от предчувствий особого предназначения до слезливого битья себя в грудь, мол, да, мы – провинциальные, мы толком так и не вошли в Европу. Мол, вот рыцарский замок, за его стенами цветущие европейские сады и прекрасно обустроенные селения. А где-то там, за далекой рекой, за лесами и долами – русские угодья, тайга, где можно разжиться древесиной, медом диких пчел и собольими шкурами. Наши размеры и впрямь угнетают нас самих, да и обилие природных богатств для самих невыносимо. Но обычной страной, одной из других, мы быть никак не желаем. Такая гордыня: это что ж, при такой-то широте неповторимой натуры и неизъяснимом богатстве души взять да и смириться, начать усердно и повседневно работать, как другие народы, да что ж, мы немцы, что ли! Нет, мы государства не терпим, принуждения к труду не выносим, мы – стихийные анархисты, от графа Толстого и князя Кропоткина до последнего какого-нибудь немытого монашка в дальнем скиту, до пьянчуг в захолустном трактире. И вера наша или уж самая верная, у нас Небесный Иерусалим и Христос родился под Калугой, чуть не самоходом исходил вдоль и поперек родную землю, благословляя чумазый люд, или уж – самая изуверская, на грани полного безверия и большевизма…
Разговоры эти, очень русские, были в то время почти неизбежны. Нечто подобное муссировалось в журналах и газетах. То же на разные лады звучало и в буржуазных гостиных, и в мещанских столовых, Иозеф порядком от этих бесед устал. Это были разговоры сразу обо всем, а, по сути, ни о чем, так умеют говорить часами только русские. Такая же манера была у русской публицистики – начинать примерами непременно из времен Древнего Рима и Французской революции. А когда автор добредал, наконец, до сути дела, читатель уж забывал – Татищева он читает или Иосифа Флавия (40).
Иногда Иозеф пробовал и сам вставить словечко. Так, когда речь зашла об анархизме, вспомнил: