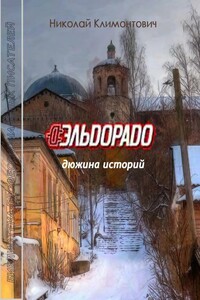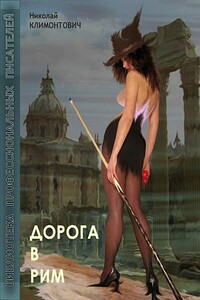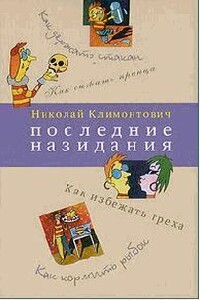Парадокс о европейце | страница 171
В саквояже флорентийской кожи помимо этих двух записных книжек были Нинины письма, несколько ее и детей фотографических карточек и толстая пачка стодолларовых купюр, отложенных на случай отъезда семьи на Запад.
Тому, что эти книжицы пережили Нинину эвакуацию и дошли до внука-рассказчика, мы обязаны именно их маленькому формату и добротности переплета – они не годились на растопку и сохранились в сарае хозяйки квартиры, которую нанимала Нина во время войны, когда учительствовала в Ворсме. Если бы хозяйка не поленилась заглянуть в любую из них и попыталась бы разобрать мелкий и быстрый почерк Иозефа, она наверняка перепугалась бы и, несомненно, избавилась бы от весьма опасных по тем временам записей. Но читали эти книжечки, на наше счастье, судя по следам помета на переплетах, только ее куры.
Иногда думается: не могли же столь великие жертвы были быть принесены просто так. Чтобы восторжествовало все вот это… Но эти мысли у меня от усталости…
Православные храмы – вполне поместительные и удобные терапевтические заведения. А умный опытный духовник, коли он трезв, может быть сносным психоаналитиком.
Эта русская традиция – неистово спорить о любви к какому-то абстрактному народу и до крайности не уметь уважать отдельного человека. Собственно, упоение и есть основа любой жестокости: хоть религиозный экстаз, хоть революционный – тут истоки и инквизиции, и гильотины.
С ними трудно жить. Но язык!
Плохо знаю русскую беллетристику, читал по-французски, пожалуй, лишь Тургенева, он много слабее Флобера. У Толстого читал только В и М, все, что касается «мира», – невыносимо слюняво, и совершенно неестественны женские фигуры. Но нельзя не оценить в нем баталиста. И отважную по русским меркам, без малейшего страха перед либеральной или народнической жандармерией сцену бунта в Богучарове: без капли розовой водички любви к мужику. Написать такое – нужна отвага и внутренняя свобода.
Во всем Достоевском мне только однажды попался хорошо написанный пейзаж: в сцене дуэли Ставрогина. Из пейзажа становится понятно, что герой уцелеет.
Кто-то из посольских дал книжку модного, говорят, у парижских эмигрантов Сирина – это же французский дешевый бульварный роман, к тому ж, кажется, плагиатный. И как манерен язык, русские совсем не умеют описывать то, что они сами называют «чувства», хотя очень много об этих самых чувствах говорят. И псевдоним безвкусный и претенциозный. Сириным помимо прочего назывался один дореволюционный журнал. И было бы забавно, если бы какая-нибудь советская поэтесса взяла бы себе за псевдоним название своего издательства: Анна