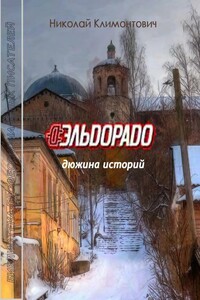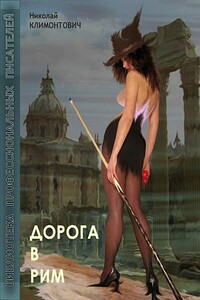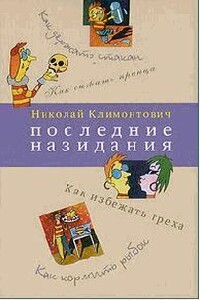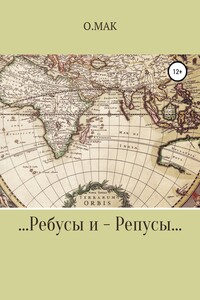Парадокс о европейце | страница 112
На вокзал его не пустили: ждали прибытия литерного.
Собралась большая толпа, но на вопросы Иозефа никто толком не желал отвечать, смотрели как на контру в его австрийской офицерской шинели со споротыми погонами. Однако из обрывков разговоров он понял со страшной болью: он опять опоздал. Из Дмитрова везли в Москву тело Князя.
Кто-то тронул его за рукав. Он обернулся, вгляделся и почти не удивился: это был Бабуния, он же Гоша Герц.
Гоша приложил палец к губам:
– Зовите меня теперь Мефодий Ликиардопуло.
Как все прирожденные революционеры, и этот никак не мог отвыкнуть паясничать и играть в конспирацию. Даже на похоронах. Хоть был уж и не молод. И костюм у него был как у ряженого, под стать новому имечку: какая-то овчинная, пастушеская, что ли, бурка не бурка. И совершенно необозримый кавказский какой-то картуз. На груди его красовался красный бант, в руке он держал бумажную алую розу, прикрученную проволокой к деревяшке.
– Откуда вы здесь взялись? – спросил Иозеф, уже отвыкший чему-либо удивляться.
– Выпустили из тюрьмы под честное слово. Меня и еще шестерых (52). Отдать, так сказать, последний долг. Вы ведь тоже покойного хорошо знали?
Иозеф понял: этот самый Бабуния – кладбищенский призрак революции, ходячая трагическая пародия, олицетворяющая все смертельно-карнавальное, что есть в этом странном воплощении вечной человеческой склонности к насмешке над всем здравым и здоровым. В конечном итоге склонности к самоотрицанию и саморазрушению… Он отвернулся и ничего не сказал.
Что ж, точно так Иозеф не удивился, когда на свободную койку в его камере в нижнем этаже Лубянки определили этого самого Бабуния. Старого meverick заволокли в камеру, видно – после допроса, и усадили на койку напротив Иозефа. Из носа и с губ его текла кровь.
– Bon jorno, – нашел в себе силы промолвить разбитым ртом старый революционный паяц.
– Buono sera.
– Come siete?
– Sto bene. E tu?
– Sto molto bene. Grazie…[17]
И Бабуния, точнее Гоша Герц, еще точнее – Мефодий Ликиардопуло, потерял сознание…
Но до этой последней встречи оставалось еще полтора десятка лет жизни.
Бабушка потом вспоминала, что, когда ее муж нашелся, так она выразилась, будто до того он играл с ней в прятки, она испугалась: нет, не того, как плохо он выглядел и как исхудал – что ж, один, без жены, без ухода… Но устрашилась печати какого-то смертельного одиночества, что была на его лице. Как будто он побывал там, откуда простые смертные не возвращаются…