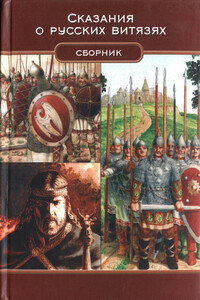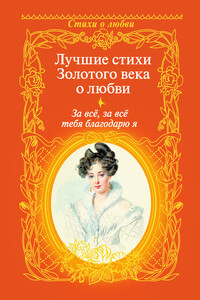Полное собрание стихотворений | страница 31
Еще в 1814 или 1815 году Батюшков написал свое знаменитое стихотворение «Вакханка», названное Белинским «апофеозою чувственной страсти».[84] Оно в высшей степени примечательно и тем, что в нем наметился тот метод изображения жизни античной древности, который Батюшков с блеском продемонстрировал в своих лирических циклах «Из греческой антологии» (1817–1818) и «Подражания древним» (1821), представляющих собой единое целое.
В антологических стихотворениях Батюшкова преобладает тема любви – «пылких восторгов» и «упоенья» земной страсти; это показывает, что он по-прежнему остается жизнелюбивым поэтом. Рядом с ней стоит героическая тема борьбы с опасностями, гордого презрения к смерти. Эта тема сближала Батюшкова с передовой вольнолюбивой литературой, проникнутой идеями декабризма, и предвосхищала пушкинский гимн председателя из «Пира во время чумы», прославляющий «упоение в бою». Но так как сознание Батюшкова в пору сочинения антологических стихотворений отличалось резко выраженной противоречивостью, в них вместе с тем намечается сложный комплекс минорных, а подчас и пессимистических настроений. Этими настроениями подсказана трагическая тема смерти юного существа и тема бренности всех человеческих дел и ценностей, развернутая на фоне картин разрушения и гибели древних культур (см. 5-е стихотворение из греческой антологии, построенное на контрасте величия древнего города и его позднейшего запустения, а также примыкающее к антологическим циклам Батюшкова превосходное стихотворение «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы…», в котором подчеркнута невозможность возрождения древней цивилизации).
До Батюшкова антологические стихотворения писали Державин (см. его перевод из Павла Силенциария «Оковы», относящийся к 1809 г.) и Дмитриев. С. П. Шевырев в своих парижских лекциях о русской литературе справедливо утверждал, что в некоторых Дмитриевских «антологических пьесах» содержатся «зародыши поэзии Батюшкова».