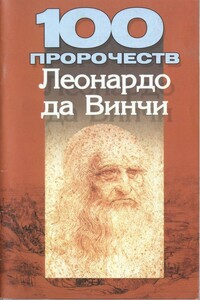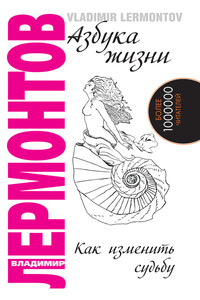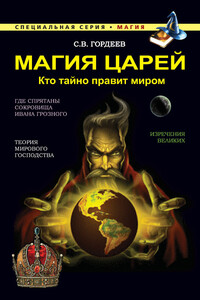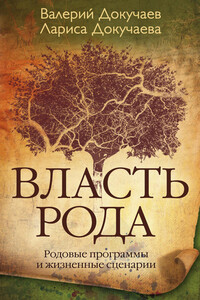Метаморфозы душевной жизни. Путь душевных переживаний. Часть 2 | страница 64
Здесь нам явлено на более высокой ступени то, что закономерно и на низшей: растение этого года не может стать растением следующего года, если не вернется в неопределенность земного лона, чтобы вырасти вновь в будущем году. Но здесь развитие остается лишь повторением. И только у человека оно становится настоящим развитием; у человека переживания погружаются в ночное лоно бессознательного, затем извлекаются вновь — они, разумеется, повторяются многократно, — чтобы в конечном счете быть преобразованными настолько, что могут появиться как мудрость, как способности, как жизненный опыт. Так понимали жизнь в те эпохи, когда могли проникать в духовные миры глубже, чем может сделать сегодня внешнее рассмотрение. Поэтому там, где основатели древних культур хотели сообщить в образах особые факты, мы находим указания на такие примечательные подосновы человеческой жизни. Спросим себя: что должен предпринять некто, кто хотел бы воспрепятствовать тому, чтобы ряд дневных переживаний воспламенился в его душе и преобразовался в какую — либо способность? Зададимся, например, вопросом о том очень значительном переживании души, том переживании, которое образуется, когда кто — то продолжительное время переживает определенное отношение или связь с другим человеком. Эти отношения с другим человеком опускаются в ночное сознание и вновь возрождаются из него в виде того, что мы называем любовью к другому человеку, которая, если она является здоровой, представляет собой как бы экстракт следующих друг за другом переживаний. Чувство любви к другому человеку возникает благодаря тому, что ряд переживаний сливается в экстракт, как если бы мы соединяли эти переживания в некую ткань. Что надо делать тому, кто не хочет, чтобы ряд переживаний превратился в любовь? Ему пришлось бы прибегнуть к особому искусству: он должен был бы помешать естественному ночному процессу, при котором наши переживания преобразуются в эссенцию, в чувство любви; ему нужно было бы вновь распускать ночью эту ткань дневных переживаний. Сумев сделать это, он добьется того, что переживания, которые должны были преобразоваться в чувство любви к другому человеку, пройдут для его души бесследно.
На эти глубины душевной жизни хотел указать Гомер образом Пенелопы, которая обещала женихам дать согласие на брак, когда закончит тканье. Ей удалось избежать замужества только потому, что она каждую ночь вновь распускала сотканное в течение дня. Там, где видящий одновременно был художником, мы находим необычайно глубокий опыт. Сегодня этого почти не чувствуют, и подобные интерпретации поэтов, которые были еще и видящими, считаются произвольными и даже фантастическими. Но это вредит не древним поэтам и даже не истине, но исключительно только нашему времени, лишая его возможности проникнуть в глубины человеческой жизни. Итак, вечером мы берем в душу нечто, что вновь приносим из нее. Мы забираем с собой то, что развивает душу между рождением и смертью и поднимает ее способности на всё высшие ступени. Теперь спросим: где границы развития человека? Чтобы познать эти границы, надо обратить внимание на факт, что человек, просыпаясь утром, каждый раз находит то же самое физическое тело и то же самое эфирное тело с теми способностями и задатками, с той внутренней конфигурацией, которая свойственна ему от рождения. Человек не может ничего изменить в этой конфигурации, в этих очертаниях и внутренних формах физического тела и тела эфирного. Если бы человек мог брать с собой в состоянии сна физическое тело или по меньшей мере эфирное, тогда он мог бы изменять их. Утром он находит их такими, какими оставил вечером. Здесь мы имеем отчетливую границу возможностей развития в жизни между рождением и смертью. Развитие между рождением и смертью в основном ограничено душевными переживаниями, оно не может охватывать телесные переживания, не может на них распространяться.