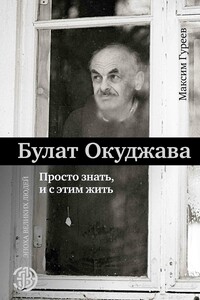Автобиография | страница 3
Что-то подобное произошло и со мной при нашей первой встрече. Маэстро многозначительно безмолвствовал, лукаво поглядывая на меня своими льдистыми голубыми глазами, как будто ждал, когда же можно будет поговорить о чем-то более занимательном, чем мои полудетские воспоминания. Ему интересна новая Россия, ее новые люди, искусство, политика. Он терпеть не может, когда с ним обращаются, как с музейным экспонатом. Он любит пафос на сцене, но не выносит пустословия и высокопарности в жизни. На римской вилле маэстро с ним за одним столом всегда обедают его садовник, секретарь, водитель, вся многочисленная прислуга. В Дзеффирелли есть широта настоящего патриция, позволяющая на равных общаться и с президентами, и с простой уборщицей.
…Я хорошо помню нашу первую встречу. Ноябрь, дождь — в это время года в Риме всегда дождь. Ворота открыты, но меня никто не встречает. Повсюду стоят стремянки. Пахнет краской и свежим цементом. Наверное, ремонт, думаю я. Боясь наследить, иду через сад к застекленному окну террасы. Там сквозь струи дождя, стекающие по стеклу, вижу его. Какое-то время просто стою и смотрю, не решаясь постучаться и войти. Очень старый человек перекладывает бумаги на столе и, кажется, о чем-то говорит сам с собой. Потом я понял, что у него такая манера общаться с собаками, расположившимися тут же, на диване и креслах. Эта сцена была похожа на финальные кадры «Соляриса» Тарковского: дождь, дом, старик отец, не видящий, кто стоит и смотрит на него за окном… В какой-то момент наши взгляды встретились. Собаки истошно залаяли. Но, похоже, он ничуть не удивился ни их лаю, ни моему появлению. «Ну что ты там стоишь, входи же наконец», — махнул он мне рукой.
В доме было тихо и зябко, хотя топился камин. Он пригласил сесть за обеденный стол, покрытой вязаной кружевной скатертью. Нам подали чай («Русские всегда пьют много чая»), С самого начала разговор пошел такой, будто мы знаем друг друга всю жизнь. У маэстро есть дар мгновенно устанавливать контакт и одним своим рукопожатием упразднять скучные формальности. Дзеффирелли так велик, что может себе позволить забыть о собственном статусе небожителя. Он так проницателен, что не нуждается в дистанции, соответствующей его возрасту и положению. Как идеально воспитанный человек, он всегда дает первым высказаться собеседнику, а не спешит обрушить на него заготовленные монологи «о доблести, о подвигах, о славе». В том, что он говорил, в самом тембре его красивого актерского баритона, и в тихом сиянии лампы под кремовым абажуром над столом, и в едва слышном сопении спящих собак, и в легком потрескивании дров в камине — во всем было что-то завораживающее. Все было наполнено таким подмосковным дачным уютом, что в какой-то момент я даже позабыл, зачем сюда пришел. Мне было хорошо, Дзеффирелли, надеюсь, тоже.