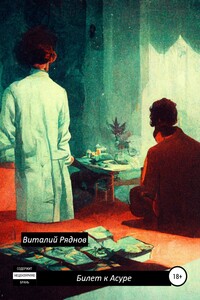Мраморный лебедь | страница 60
У женщины руки обуглились уже до локтей. Пожар перешептывается с кисейной занавеской. Доскользит ли тихое круглое горлышко до умирающих от жажды ртов?
Далеко-далеко, у вокзала, кто-то поднял обломок кирпича, подскочил к собаке, и кирпич оказался в собачьей оправе.
Табуретка стояла в коридоре. Над ней свисала петля и кусок хозяйственного мыла лежал рядом. Дмитрий Алексеевич Дыба ощупал свое голое тело, – чуть не сковырнул родинку на боку, разросшуюся, в расщелинках и бугорках, как деревенька, увиденная из окна самолета, – совершенно негде было спрятать записку.
Дневной сон плохо действовал на Дмитрия Алексеевича со смешной фамилией Дыба, которую всегда обыгрывали сослуживцы в довольно угрюмых капустниках, а вечером ему непременно нужно было быть на спектакле в Городском театре.
Спектакль начинался издалека: уже за два квартала от театра зрители попадали в тесный коридор лагерной охраны. Вохра держала на поводках крупных немецких овчарок. Собаки рвались с поводков и вставали на дыбы, будто они кони на Аничковом мосту в Петербурге, где Дмитрий Алексеевич никогда не бывал, но кони-то с моста, наклоняя морды вбок, разбрасывали вокруг хлопья пены, похожие на метель.
На колючей проволоке, прошитый за побег автоматной очередью, лежал ведущий артист Городского театра Аркадий Яблоков.
– Ваше место у параши, – с особым почтением проговорила Дмитрию Алексеевичу билетерша.
По проходу, тяжело дыша, как дышит нелюбимая женщина во время акта любви, бегала собака с охранником. В боку нее был оперившийся камень, – он не умер, сквозь него прошли капилляры и кровеносные сосуды, он прижился, приластился, как мог бы прижиться на малярийной, табачной, словно состоящей из одного долгого поцелуя, слякоти болот каменный город.
В театре, кстати, было холодно, и Дмитрий Алексеевич достал из портфеля плед, на котором было вышито «Федор Михайлович Достоевский», потому что Дмитрий Алексеевич одно время встречался с женщиной, которая до него встречалась с механиком теплохода «Федор Михайлович Достоевский».
– Милая, – шептал он женщине, чьи руки были обуглены до локтей.
Пожар взбирался по занавеске, как маленький гимнаст в красном трико. Свой бобовый устроили праздник две лобные доли. Он терялся в женщине так, что глаза его, в предчувствии изумления, блуждали по горящим стенам, а она, милая, хоть и обнимала его ответно, но одновременно поливала за его спиной лиловые растения, льстиво откликавшиеся на каждую каплю воды, которая лилась из маленькой детской лейки.