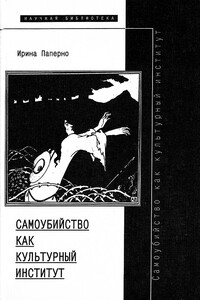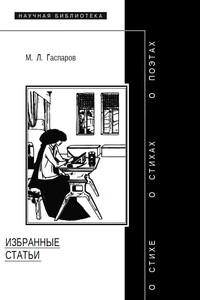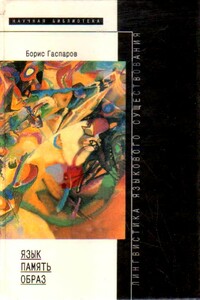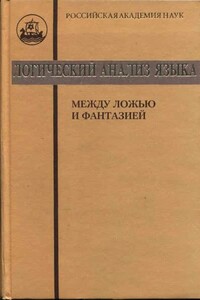Борис Пастернак: По ту сторону поэтики | страница 7
Тот факт, что после стихов из романа Пастернак возвращается, во второй автобиографии и последней книге стихов, «Когда разгуляется», к «простоте» без неоклассической рамки, простоте, не боящейся погрешностей против «вкуса» в ее стилевом облачении, показывает, насколько органичным был этот его очередной «уход» — уход из мира собственного раннего творчества, с головокружительных высот «Сестры моей — жизни», «Детства Люверс», «Охранной грамоты». В перспективе чисто стилевой эволюции этот процесс неизбежно оборачивается к нам своей негативной стороной, недвусмысленно указывая на то, что было оставлено, но не давая ответа на вопрос о положительном содержании этого процесса; если, конечно, не считать таковым банальное «желание быть понятным», идти в ногу со временем и т. д.[14] Единственный намек на возможность иной перспективы, который мне удалось найти в критической литературе, являет в высшей степени проницательное высказывание Г. С. Померанца о том, что между «простотой» как чертой поэтического стиля — скажем, «изысканной простотой» Ахматовой — и декларированной Пастернаком «неслыханной простотой» пролегает метафизическая пропасть[15]. Характерно, что это замечание принадлежит философу, а не теоретику или историку литературы.
Однако и ранняя «сложность» Пастернака заключает в себе проблему, требующую не меньшего внимания, чем «простота» его позднего стиля. Тут полезно вспомнить известный пастернаковский парадокс о том, что «сложное понятней». И действительно, кажется более «понятным», как подступиться к лирике 1910-х годов, именно в силу богатства и сложности ее внешней фактуры, навстречу которой с готовностью устремляется весь арсенал поэтологических подходов и аналитических приемов, — тогда как перед лицом «простоты» он оказывается оружием, для которого с трудом находится цель. Понятность «сложного» — это понятность его в качестве предмета анализа и интерпретации, понятность того, как оно «сделано». Однако увлекательное богатство поэтического кода легко уводит в сторону от сообщения, то есть от того, что, собственно, данное стихотворение нам говорит, и почему оно это говорит именно таким образом. В этом смысле аналитическая привлекательность, даже седуктивность раннего пастернаковского стиля провоцирует читателя на то, чтобы отдаться напору стиха, его интуитивно ощущаемой энергии, богатству и смелости образов, — не вникая в детали, калейдоскопически сменяющие друг друга в этом стремительном потоке, не стремясь уловить проглянувший в нем конкретный «образ мира», проследить