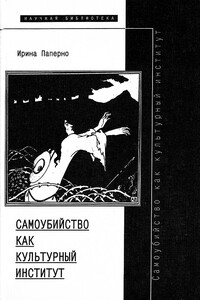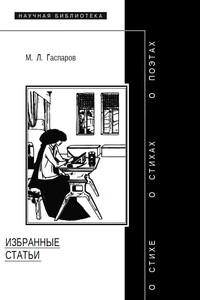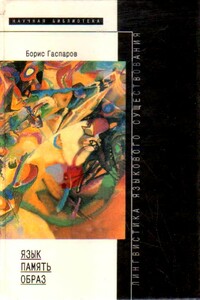Борис Пастернак: По ту сторону поэтики | страница 37
У лирического героя раннего Пастернака — не только первых стихотворных книг, но даже «Охранной грамоты», — сознание риска, беззаконности, даже буквальной травматической болезненности этого шага перекрывается захватывающим дух восторгом перед сказочной заповедностью мира, внезапно открывшегося взгляду «заблудившегося» путника. Теперь на первый план выступает и одиночество субъекта в тот момент, когда он оказывается лицом к лицу с «этим светом» в его истинной, свободной сущности, и смертельная внеположность заповедной местности, в которой это свидание происходит. Этот новый обертон ситуации, который — имея в виду то, что было близко самому Пастернаку в этот период его жизни, — можно назвать «гамлетовским», получает выражение в словах Дудорова:
Как это в «Гамлете»? Один я наконец-то. Вот оно, вот оно. Ожиданье всей жизни. И вот оно наступило. (СС 4: 528)
Дудоров цитирует Шекспира в переводе Пастернака, но не совсем точно: в пьесе Гамлет, после того как ушли Розенкранц и Гильденстерн, говорит: «Один я. Наконец-то!». «Неточность» цитаты вносит важную перемену смысла: в словах Дудорова речь идет о метафизическом одиночестве перед лицом действительности.
Конечно, легко увидеть в этом потемнении общей тональности философского мировоззрения Пастернака отражение и его психологической настроенности в этот момент, и опыта сталинских тридцатых годов, который лежал в ее основе. Значимость такого рода психологических и контекстуальных объяснений невозможно отрицать, но она не должна заслонять от нас внутреннюю логику мысли Пастернака. Юношеский восторг перед кивком «милого понимания», которым тебя приветствует свободная действительность, заставляющим забыть боль травмы и утрат; когда «пахнущий смертью» воздух из растворенного в мир «окна» захватывает дух предчувствием свободы, а в остро переживаемом «подобии смерти» уже прозревается второе рождение, — отошел в прошлое. Это та тяжесть, которая будет замедлять вихревое движение частиц языковой материи в фактуре его стиха, заставляя ее постепенно приближаться к абсолюту «неслыханной простоты», — цели, окончательным воплощением которой может быть только «полная немота» (The rest is silence).
4. Рационализм и романтизм
Невозможно не заметить, что, уклонившись с марбургского пути, художественная философия Пастернака оказывается в положении, приближающем ее к Йене. То, как Пастернак говорит о возможности обойти трансцендентальные законы разума в художественном познании, прикоснувшись к неудержимому динамизму феноменального мира, обнаруживает в себе много сходных черт с программой «романтической поэзии» йенского «Атенеума», возникшей в ответ на утверждение априорного единства познания в «Критике чистого разума». Романтизм родился из метафизической тоски по абсолюту мира «в себе», на пути к которому выросли трансцендентальные категории. Преодолеть осознанную недоступность объективного мира и была призвана «романтическая поэзия» как философский концепт. Разнонаправленность, диффузность, фрагментарность романтической мысли — то, что у позднейших романтиков зачастую выглядит нарциссическими причудами фантазии, — имела для раннего романтизма философский смысл в качестве единственного средства обойти постулированную недостижимость мира по ту сторону категорий чистого разума. Наводненный «романтическим» элементом свободной фантазии, чистый разум теряет свою чистоту, — но вместе с ней и свою предопределенную ограниченность.