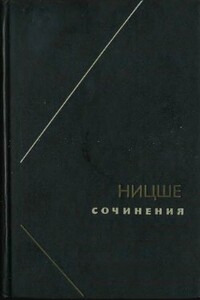Очерк философии в самоизложении | страница 55
. После Дарвина, впрочем, не оставалось уже никаких сомнений в одном: держаться прежнего нелепого креационизма было столь же невозможно, как и нового нелепого эволюционизма, но если в средневековом раскладе главенствующим был креационизм, то в естественнонаучном раскладе Нового времени первенство принадлежало эволюционизму, и весь вопрос упирался в мёртвую точку конца (или остановки) эволюционной теории, которая понятным образом заканчивалась там же, где и начиналась: в биологии. Проблема заключалась в неконгруэнтности, гетерогенности, несовместимости биологического и психологического – при абсолютной очевидности телесного и маревности душевного, которое, с одной стороны, не могло не быть, а с другой, не могло быть понято. Психологи, поставленные перед выбором между теологией и физиологией, понятным образом решали в пользу последней, сводя загадочную душу (сознание, Я) к телесным процессам или вовсе к фикции als ob, регулятивно объясняющей необъяснимое. В этом сказывался общий дуктус эпохи, упраздняющей по всем естественнонаучным фронтам призраки антично-средневековых субстанций, вроде флогистона или энтелехии (психология без души Фридриха Альберта Ланге повторяла в этом смысле кислородную теорию горения без флогистона Лавуазье). Ситуация впечатляла смещённостью и рыхлостью старых устоявшихся смыслов: защищать «душу» от натиска научного материализма можно было, лишь пребывая во сне вечных истин при полном пренебрежении к vérités de fait. Материализм (атеизм) в тяжбе против старого идеализма и спиритуализма оказывался ясно и просто прав: за респектабельным фасадом vérités éternelles скрывались всего лишь призраки, жаждущие реванша и прежних льгот. Если обратиться к азам нашей theologia haeretica и вспомнить, что Творец Неба и Земли был бы банкротом, не будь он в то же время Творцом Сатаны (в двуипостасности последнего), то грешно было бы не увидеть в материализме Нового времени божественность. Особенно в великом деле освобождения христианского обывателя от иллюзии, называемой «душой», когда каждый Жан, Жак или Жан-Жак намертво убеждены в том, что собственные свои души они несут в груди с той же непреложностью, с какой они несут на шее кресты, а в кармане кошельки. Любопытно, что в цепи великих освобождений человеку выпала участь быть последним, даже и сегодня ещё не сломленным бастионом языческо-христианских иллюзий. В физике Аристотеля, которая в системе его мысли была не больше, чем прикладной метафизикой, природным вещам вменялось нести свои сущности
Книги, похожие на Очерк философии в самоизложении