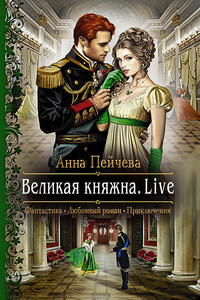Селфи на фоне санкций | страница 60
Папа подошел к окну. Он тоже всегда успокаивался, глядя сверху вниз на оживленную Малую Балканскую улицу. Когда я была маленькой, у меня часто болели уши – хронический отит не давал спать; и пока мама была где-то на другом конце земли, мы с ним вдвоем провели много, много ночных часов, наблюдая за бегущими по своим делам машинками.
– Хорошо, Саша, – после паузы сказал он другим тоном. – Я тебе верю. Занимайся дачей сама. Хотя что я буду говорить людям, если меня будут спрашивать, почему это давно не видно мою дочь по телевизору?!
– Ну говори, что я работаю над новым проектом о жизни в деревне, – предложила я. – Тем более, что это в некотором смысле правда. Я даже сама перееду на дачу! Чтобы ни одной лишней минуты не тратить зря. Буду просыпаться и сразу приниматься за ремонт.
Мама всплеснула руками. Браслеты на ее запястьях протестующе зазвенели.
– Сашуля, это просто исключено! Там же совершенно никаких условий! Туалет на улице! Старая стальная печка! Ты замерзнешь! Витя, ну скажи же ей!
– Если хочет – пусть переезжает, – отрезал папа. – Иначе точно ничего не выйдет.
Боюсь, шансы у меня и так невелики, подумала я на следующее утро, глядя на огромную лужу посреди кухни. Вода струилась по печной трубе, водопадом стекала по кривым бокам чёрной буржуйки и скапливалась на выцветшем линолеуме в небольшое озеро. А ведь это даже не ливень – стандартный петербургский осенний дождик. В комнатах дела обстояли ненамного лучше – подтёки здесь расползались по всему потолку. Коричневые пятна на грязно-бежевой фанере походили на страшных мифических животных. Гераклом, побеждающем дырявую крышу, я себя совсем не считала. Чёрт возьми, я даже не знала, с какой стороны к этому подступиться! Как вообще чинят прорехи в крыше? Изнутри или снаружи?
Стены в доме производили не менее гнетущее впечатление. Обои в гигантских красных ромбах – типичный советский рисунок – вздыбились некрасивыми волнами. От выцветших заплесневелых ковров на стенах исходил отвратительный запах. Посевной календарь одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года, оставшийся от прежних хозяев и украшенный фотографией редиски-рекордсменки, с трудом держался на последней ржавой кнопке.
Две продавленные кровати – точнее, тахты, вспомнила я полузабытое слово, – по одной в каждой комнате, с грубыми клетчатыми покрывалами на них. Дефицитная массивная темно-коричневая стенка, как ни странно, совсем не пострадала от времени и сырости (эти румынские мебельщики своё дело знали), однако ее устаревший дизайн угнетал гораздо больше, чем любой другой предмет обстановки. Безвкусная посуда, выставленная всем на обозрение за стеклянными дверцами, вызывала необоримое желание сбегать за молотком.