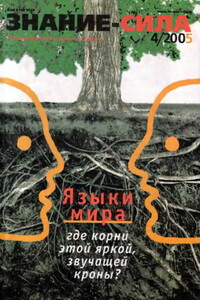Знание-сила, 2004 № 01 (919) | страница 16
Гораздо забавнее, что литературные пуристы пишут Акунина через запятую с Марининой, когда говорят об упадке литературы. Это — общественный миф. Когда в детективе появляется мистическая составляющая (как бывает у Марининой) — это признак слабости автора, провал в сюжете, который латается этой мистикой или фантастическими изобретениями. Акунин в этом смысле стилистически выверен, его сравнивают с Эко и Фаулзом — основания для этого, безусловно, есть. Однако он еще похож и на сериал «Твин Пике» Линча: все его монахи — не то, чем они кажутся.
В этом и есть многосоставность: один читатель получает интри1у детектива, а другой — игру в «угадайку». Битву незакавыченных цитат и интеллектуальных ассоциаций — Достоевский, Лесков, Чехов. Акунин — хороший стилист, герои которого намекают чуть ли не на все литературные сюжеты, вместе взятые, ведут разговоры о Сущем и Вещем, месте Церкви в жизни общества, вокруг них загадки духа и материи, психоанализ и распад ядра атома. Ну, и монашка Пелагия, расставляющая все по местам.
Лицо духовного звания в роли детектива — традиция давняя, насчитывающая несколько классических персонажей. Традиция эта важная, потому что лишает повествование традиционной любовной линии — у Акунина это обыгрывается довольно забавно. Так же важна здесь и другая традиция — идеальный детектив всегда разворачивается в замкнутом пространстве, а лучшее замкнутое пространство — остров. В «Черном монахе» это действительно Остров Мертвых, уже не беклиновский, тот, что висел на каждой квартирной стенке в начале века, будто бородатый старина Хэм в квартирах физиков-шестидесятников. Остров здесь монастырский: не то Осташковская обитель — польская погибель, не то новоиерусалимский град Истра, где есть «мясоедная ресторация „Валтасаров пир“, парикмахерская „Данила“, сувенирная лавка „Дары волхвов“ и банковская контора „Лепта вдовицы“»...
Есть там взятый напрокат из шекспировской «Бури» Просперо — психиатр-любитель со всей магией своей терапии (и последующим ее разоблачением). Разговоры этого персонажа отсылают прямо к Чехову. Как писал Лев Шестов в «Творчестве из ничего»: «В „Черном монахе“ Чехов рассказывает о новой действительности и таким тоном, как будто сам недоумевает, где кончается действительность и начинается фантасмагория. Черный монах влечет молодого ученого куда- то в таинственную даль, где должны осуществиться лучшие мечты человечества. Окружающие люди называют монаха галлюцинацией и борются с ним медицинскими средствами — бромом, усиленным питанием, молоком. Сам Кобрин не знает, кто прав. Когда он беседует с монахом, ему кажется, что прав монах, когда он видит пред собой рыдающую жену и серьезные, встревоженные лица докторов, он признается, что находится во власти навязчивых идей, ведущих его прямым путем к помешательству».