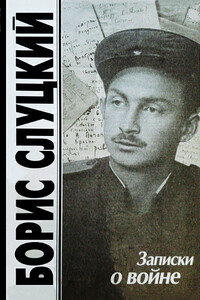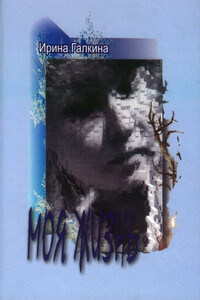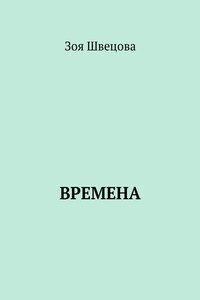Покуда над стихами плачут... | страница 34
(М. Гаспаров. Записи и выписки. М., 2000. С. 248.)
«Пощечина», которую «партия дала самой себе», по мысли автора этой «Записи», заключалась в том, что стихотворение, однажды опубликованное, никогда больше не перепечатывалось. Поняли, значит, что к чему.
В общем, это верно. С той небольшой, но существенной поправкой, что поставить Слуцкого «в ряд» они все-таки не смогли. Вернее, не захотели. На протяжении всей своей жизни в литературе он оставался для них чужим. Несмотря на то что был (сознавал, чувствовал себя) коммунистом. То есть как раз не «несмотря», а именно вот поэтому. Коммунисты им в то время были уже не нужны. Нужны были — члены партии.
А драма Слуцкого состояла в том, что, сознавая себя коммунистом — то есть принадлежащим к той партии, «где лгать нельзя и трусом быть нельзя», — на самом деле состоял он совсем в другой партии: той, в которой можно было оставаться, лишь совершая обратное: постоянно, чуть ли не ежедневно лгать и трусить, трусить и лгать.
Это противоречие не могло не разрешиться взрывом. И взрыв произошел.
Вот как он сам сказал об этом взрыве, разрушившем самую основу его жизни и в конце концов — взрывной волной — уничтожившем его самого:
Это не поза, не поэтическая метафора. Тут все — правда. Все, кроме разве что одной строчки. Даже не строчки, полустрочия: «Когда — не помню».
Он прекрасно помнил, где и когда имел место «этот случай», перевернувший всю его жизнь. И дело было совсем не в том, что он просто струсил, проявил робость, «дал слабину». Это бы еще ладно, с кем не бывает. Такое еще можно было бы себе простить.
Не мог он себе простить, как уже было сказано, что в этот критический момент повел себя как член той партии, негласный, неписаный устав которой приказал ему струсить и солгать.
Вот как это было.
Когда готовился шабаш, на котором братья-писатели должны были дружно проклясть и изгнать из своих рядов Пастернака, устроители этого важного партийно-государственного мероприятия были очень озабочены тем, чтобы свора проклинающих состояла не только из их цепных псов, чтобы был среди них хоть один истинный поэт, имя которого хоть что-нибудь значило бы и для читателя, и, может быть, даже для культурной элиты Запада.