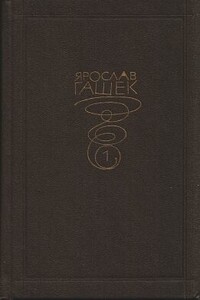Тренинги свободы | страница 84
В тысяча девятьсот восемьдесят девятом году, в те памятные осенние вечера, когда люди вышли на улицы Лейпцига, они кричали: «Народ — это мы!» У меня дух захватывало от радостного изумления. Ведь это означало: мы — те свободные люди, которые хотят совместно решать свою судьбу. Мы спасены, сказал я про себя. Затем, несколько дней спустя, настроения изменились, и люди теперь кричали: «Мы — единый народ!» Это все еще означало что-то подобное. На какой бы стороне границы мы ни жили, мы все — свободные люди, которые хотят совместно решать свою судьбу. Но спустя еще несколько дней люди кричали: «Мы — немцы!», — а это уже совсем не значит, что мы — свободные люди. Обе Германии объединились под знаком не первого, не второго принципа, не в духе принципа верховенства народа, а в духе третьего лозунга, в сознании традиции верховенства нации. Ничего мы не спасены, сказал я про себя; наоборот: мы сидим в самой большой культурной луже, какую только можно представить.
Эта новая Германия не может быть национальным государством, так как ее правовая система строится на принципе верховенства народа, а пока эта правовая система действует, национальный принцип в любом случае трудно будет противопоставить принципу демократии. Но в то же время в этой Германии существует не одна, но уже две идентичности; если одна из них соответствует ее общей правовой системе, то другая — нет. Одну эту идентичность определяет опыт преемственности двух (с разными знаками) коллективизмов, вторую — опыт индивидуализма, пришедшего на смену коллективизму. Коллективная идентичность «осси» гораздо больше походит на венгерскую коллективную идентичность, чем на коллективную идентичность того «весси», чья коллективная идентичность скорее похожа на коллективную идентичность французов. Они говорят по-немецки, и все же — на разных языках. Легче всего было бы общества, организованные на принципе индивидуализма, отождествить с Добром, а общества, организованные на принципе коллективизма, — со Злом: тогда у нас сейчас была бы такая Германия, в которой зло должно было бы превратиться в добро. Это наверняка не было бы таким трудным делом: ведь еще Аристотель сказал, что каждый отдельный человек стремится к добру. Беда лишь в том, что люди, большую часть жизни прожившие кто здесь, кто там, не склонны отождествлять себя с теми режимами, в которых они жили или живут. Мы живем в обстановке ужасающих потрясений — и, возможно, еще более ужасные потрясения ждут нас впереди. Если есть Германия и есть немцы, то сейчас немцы, на своем языке и друг с другом, должны обсудить такие проблемы, которые европейские нации до сих пор стремились решить скорее на поле боя. Предположу, что они поймут других и на других языках в такой же мере, как понимают друг друга на своем языке.