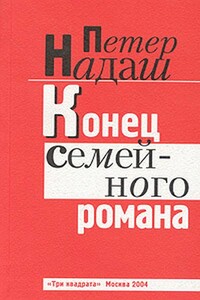Тренинги свободы | страница 75
Что же касается национальных легенд, то, благожелательны они или неблагожелательны, они всегда пытаются создать общую идентичность по образцу идентичности личной, через подобия и различия. И когда два человека разной национальности, уже в достаточной мере подготовленные, подогретые всеобщей жестокой практикой бытования национальных легенд, оказываются лицом друг к другу, каждый из них, хочет он того или не хочет, попадает в противостояние с собственной, давно усвоенной им, как говорится, с молоком матери впитанной национальной легендой. Ибо все, что я нахожу интересным и привлекательным в характере другого человека, я так или иначе сопоставляю с характером его нации (а сделать это можно только в контексте подобий и различий), — но в то же время, конечно, и отделяю характер данного человека от характера его нации, поскольку данный человек, как и любой человек, своей нации не тождествен. Точно так же я и в самом себе ищу и нахожу особенности характера, отличающие меня от моей нации или сближающие с ней; и точно так же я не отождествляю себя со своей нацией, так как я — отдельный человек, отдельная личность со своим индивидуальным, «отдельным» характером. Есть нации, которые терпеть не могут друг друга; но вряд ли вам удастся найти две нации, которые были бы друг в друга влюблены. Дело тут выглядит вовсе не так, как написано в книгах, содержащих национальные легенды. Каждый отдельный человек воплощает в себе абсолютную идентичность, представляя ее перед лицом своей нации, в то время как относительная идентичность целой нации поддается определению лишь через подобия и различия, существующие между личностями, которые и составляют нацию, или между нациями. Если первое (идентичность личности) — безусловная данность, то второе (идентичность нации) — абстракция, привязанная к тем или иным условиям. Я склоняюсь к мысли, что с точки зрения личностной идентичности даже язык — всего лишь абстракция. Согласен: скорее всего это слишком смелое утверждение.
Чтобы немного защитить свою позицию — и перевести дух, — расскажу одну историю.
В один прекрасный день произошло вот что: приземистый господин по имени Хомола стоял в нашей ванне и чинил кран. Было это давно, лет двадцать тому назад. Чиня кран, он сказал, что ему тут надо смотаться в Австрию, кое-какие запчасти купить для машины, которых у нас не достать. И спросил, знаю ли я немецкий. Я покачал головой — так, чтобы это одновременно означало и «да», и «нет». Он спросил: а мог бы я его научить? Конечно, с удовольствием, поспешил я ответить, чтобы ненароком не обидеть его. Ведь если я его обижу, больше он к нам никогда ничего не придет чинить. Я спросил, когда он собирается ехать. На будущей неделе, ответил он. Тогда времени у нас маловато, заметил я не без облегчения. То есть как это, удивился он, а сколько же тогда времени мне самому понадобилось, чтобы немецкий выучить? Опасаясь, что авторитет мой в мгновение ока рухнет, я все же не стал врать и честно ответил: по крайней мере лет десять мучаюсь уже, но и сейчас не стал бы так уж уверенно утверждать, что знаю немецкий. Он как раз пытался осторожно, чтобы не сорвать резьбу на трубе, ослабить гайку, — и тут разводной ключ замер в его руке. Мое сообщение поразило его настолько, что, после того как ему удалось-таки повернуть гайку, он выпрямился, стоя в ванне, и взглянул на меня оттуда, как на какое-то не поддающееся разгадке чудо природы. «Да уж, что там ни говори, а венгерский язык — самый лучший на свете», — произнес он весомо. На что у меня вырвалось тихое и робкое: почему? Лицо у него выразило внутреннюю борьбу, он мычал, заикался, искал слова, которые как-то подкрепили бы его заявление. «Ну… почему… Да очень просто. — Он даже руками себе помогал, чтобы найти недостающие аргументы. — Потому что… если ты говоришь по-венгерски, то все, ну все-все можно выразить!»