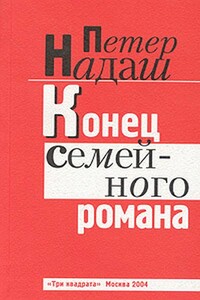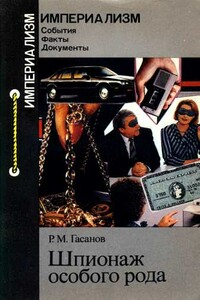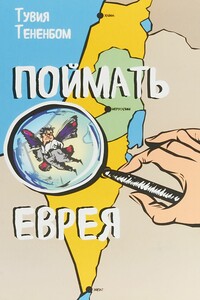Тренинги свободы | страница 31
К концу дня неведение общества в целом относительно грозной опасности, ощущаемой каждым в отдельности, породило в стране атмосферу той напряженности, которая у других народов пробуждает то, что еще и поныне зовется ответственностью за судьбу нации. Но не так было у венгров в описываемое время. Независимо от того, что думал каждый из них о происходящем, невозможно было не чувствовать в воздухе запах гари; тем не менее, если на эту тему вообще заходил разговор, коллективно они приходили к выводу, что, скорее всего, на город движется ураган — оттого, мол, и небо так почернело; причем каждый в отдельности понимал, что ни паводок, ни искусственный, разведенный пожарниками огонь дыма не выделяют и не могут поэтому вызвать ни ураган, ни бурю. Наконец в вечернем выпуске новостей прозвучали некоторые подробности о случившемся. Однако для лучшего понимания событий следует прежде сказать о тех в высшей степени уважаемых дамах и господах, для которых не только профессией, но и делом всей жизни было публичное оглашение полезных обществу новостей. Начнем с того, что в ту пору венгры и в мыслях, и в поведении, и даже во внешнем облике достигли такого равенства, что и сами с трудом отличали друг друга. К примеру, на свет они появлялись взрослыми, и поскольку взрослеть им уже было незачем, то всю жизнь они оставались детьми. Необходимости в школах поэтому у них не было. Каждый, будучи взрослым, считал своим долгом учить уму-разуму остальных, ведь все венгры оставались детьми; в то же время, поскольку никто из них не мог повзрослеть, всем всю жизнь приходилось учиться. Когда же поблизости желающих учиться не оказывалось, любой мог использовать в педагогических целях самого себя, ведь общим и неотъемлемым свойством всех венгров было то, что, оставаясь детьми, они представления не имели о том, что же они знали как взрослые. Однако при всем этом равенстве были среди них и такие склонные к самопожертвованию индивиды, которым — как раз в интересах полного и абсолютного равенства — приходилось быть более равными, чем другие.
Здесь, как лживые и злонамеренные, мы сразу должны отмести отдельные безответственные заявления о том, что этими более равными членами общества были граждане и гражданки, которые управляли страной. Наука на сегодняшний день не располагает фактами, свидетельствующими о том, чтобы кто-то из них хоть однажды поделился своим индивидуальным знанием с кем-то другим. Этого они не допускали ни в своем кругу, ни за его пределами, и, стало быть, разница между гражданами, посвященными в дела общества, и гражданами, в них не посвященными, была чисто формальной. Если граждане, в дела общества не посвященные, в силу именно собственной непосвященности в эти дела фанатично и в своих собственных интересах придерживались молчаливого общественного договора никогда и ни при каких условиях не делать достоянием общества свои личные знания, то граждане, в дела общества посвященные, исходя как раз из сознания своей посвященности в эти дела, фанатично и в интересах общества придерживались молчаливого договора, в соответствии с каковым только коллективное незнание могло гарантировать то индивидуальное знание, обладать которым никто не имел права. Если первые делали вид, будто вовсе и не имели никаких индивидуальных знаний о мире, обладая лишь коллективным незнанием, то вторые делали вид, будто коллективное незнание и было их индивидуальным знанием. И в этом была своя логика. Ведь ежели кто-то не по своей вине оказался не посвященным в общественные дела, на каком основании он может претендовать на то, чтобы его индивидуальное знание стало частью общественного? С другой стороны, если некто, опять же не по своей вине, является посвященным в общественные дела, на каком основании может он отказаться от того, чтобы основу его индивидуального знания составляло коллективное незнание? В этом смысле мы можем с уверенностью говорить о принципиальном равенстве управляющих и управляемых. Управляющие не могли ограничивать управляемых в свободном доступе к собственному индивидуальному знанию точно так же, как управляемые не могли ограничивать управляющих в свободном доступе к общественному незнанию. В Венгрии описываемого периода каждый мог делать то, чего он не знает, и каждый открыто мог думать об этом то, чего он не думает. И если при сей благородной и привлекательной несознательности венгры все же не довели страну до крайнего разорения и хаоса, то этого не случилось лишь потому, что среди всех равных граждан были граждане еще более равные. И называли их — вещатели новостей.