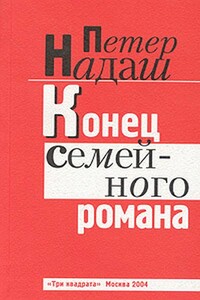Тренинги свободы | страница 129
То, что они, немцы, в бессильных судорогах предпринимают вместо этого, подвергает довольно мучительным нагрузкам нервы, но не обязательно пагубно для национального здоровья. Применительно к общим обидам они ищут такой индивидуальный язык, выражения в котором происходят не из националистического словаря обид коллективных. Такой язык, очищенный от расизма, был бы остро необходим, и его в общем даже можно представить, — но его нет не только у немцев. И боюсь, что без новых диалогических форм индивидуализма его никогда и не будет.
Мне в этой дискуссии удивительно не то, что этот язык не нашел, даже вместе со всеми своими толкователями и критиками, коллега Вальзер. Не удивительно и то, как несдержанно они, в своих монологах «про» или «контра», разделяют его эмоциональность. Я даже в состоянии понять, что страстность побуждает их воспринимать ущемление прав человека как эмоциональную или национальную дискриминацию. Мартин Вальзер допускает фатальные профессиональные ошибки. Мне кажется, я понимаю, почему остальные не хотят их заметить или молча проходят мимо них. Понимаю — но мне становится очень не по себе.
Вальзер не отделяет понятие исторической ответственности от ответственности личной. Общую обиду, испытываемую немцами вследствие дискриминации, он хочет продемонстрировать на своем собственном примере; что было бы замечательным жестом, если бы он понимал, что обида эта есть не что иное как ущемление человеческих прав, и если бы эффектным жестом самобичевания он не применял к себе принцип коллективной вины. Ощущая стыд за Освенцим, он тем самым признает себя неотделимым от всего, что было совершено его нацией; но то, что он несправедлив по отношению к самому себе, еще не самая большая ошибка: он не замечает, что тем самым он стирает границы своей личности. Свою индивидуальность он растворяет в своей нации, а это — сразу две грубых ошибки. Если бы у дискуссии не было настоящего предмета, то здесь ее и можно было бы оборвать. Потому что ничто уже не может помешать Вальзеру объявить собственную личностную память всеобъемлющей памятью «нации преступников»; при этом ему не приходит в голову, что героическим жестом этим он, опираясь на нюрнбергские расовые законы, отделяет память жертв от немецкой исторической памяти. А это означает, что свое происхождение, свою кровь он считает вещью более важной, чем свободную человеческую личность. Он не способен представить немецкую нацию, в которой содержание памяти убийц и жертв более не было бы неразделимо и историческая ответственность выживших строилась бы именно на фундаменте кошмарного общего опыта. Подход к индивидуализму со стороны крови, естественно, потянул бы его назад, к националистической схоластике, а чтобы эта катастрофа не произошла, он не называет по имени заклятых врагов немецкой нации, которые «с изготовленными к выстрелу моральными револьверами» и «нравственными дубинами» поджидают ее за углом. Если же кто-нибудь просит его назвать их по имени, он с обиженным видом вытаскивает на свет божий свою антирасистскую историю жизни или ссылается на свою, известную из его романов совесть. Пользуясь словами Луи Дюмона или Иштвана Бибо, это — классическая немецкая истерия. Если между политической нацией и культурной нацией пролегает пропасть, то одну можно разыграть против другой (по желанию). Мартин Вальзер разыгрывает самого себя против себя же. Мучительные его усилия не могут не причинять ему боли. Однако не в меньшей мере понятна и смертельная обида Бубиса.