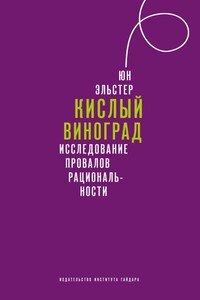Лестница в бездну | страница 6
Однако причины для пессимизма и оптимизма в истории с самого начала и до очень поздней поры мыслились как потусторонние или по меньшей мере легендарные (каковым было, например, согласно классическим китайским книгам, правление первых, образцовых китайских императоров, после которых начался ужасный и повальный декаданс), никак не зависевшие от человечества и человека. Без потусторонних ссылок научились определять свое отношение к истории как целому только во Франции, в 18-м веке; вслед за французами двинулись немцы (Фейербах, Маркс); наконец, Ницше сделал презрение и надежду в отношении человечества главной сценой (и мизансценой) своего мышления: он рассуждал о глубоком декадансе человечества, о возможности и необходимости выбраться из него в сферу сверхчеловеческого.
Сам Ницше заявлял, будто поднялся над тем, что называлось пессимизмом и оптимизмом, и с определенной точки зрения он был прав: если врач ставит тяжелый диагноз, это не значит, что он пессимист, а если назначает лечение — что он оптимист. Он просто знает и обязан делать то, что знает. Но в другом, просто человеческом месте своей души он при этом может испытывать отчаяние или питать надежду. Лично мне как-то не по душе нении (или, по-русски, нюни— впрочем, это вопрос для филологов); впрочем, посмотрим — может быть, в конце этой лестницы я еще сумею предложить и что-нибудь другое, освежающее.
Пока мыслители рассуждали, человечество ни о чем не думало, а жило, как могло, и к концу 20-го века подвело себе итог, пусть пока предварительный, но уже довольно ясный и безутешный (другой критически настроенный мыслитель, К. Г. Юнг, метафорически назвал бы этот итог антихристовским, см. его книгу «Эон»). Надежда на то, что этот итог не окончателен, признаться, совершенно иррациональна, если даже не безумна, — иными словами, я не могу толком и общезначимо объяснить, на чем она основана. Но она, как ни странно, есть, хотя и еле жива: без нее я не брался бы за перо, как, вероятно, и каждый, кто думал о чем-то подобном. Чтобы продлить эту полупризрачную жизнь надежды, дать ей еще немного потрепетать (ведь, может быть, случится какое-нибудь чудо), надо попробовать ответить на ряд вопросов: когда началась патология европейской психической жизни, то есть жизни вообще? Как она развивалась? Почему? Чего теперь ждать? На что надеяться? Или надеяться уже не на что, а ждать нечего?