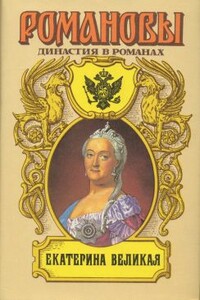Владимирские Мономахи | страница 22
Когда молодой человек воскликнул: — Надо все сказать! — она быстро вошла в комнату и молча подошла к его постели. Больной при виде ее сильно двинулся, будто дернулся на постели и, тотчас отвернувшись лицом к стене, глубоко вздохнул.
— Ну, что же? Только того и будет? — спросил старик.
Сын не отвечал, а племянница вымолвила холодно:
— Что такое?
— Да все тоже… который раз… Собирается мне изъяснить важное что-то. А как ты в двери, так молчка. При тебе, что ли не хочет.
И Аникита Ильич прибавил громче:
— Алеша! При Санне не хочешь? Так она уйдет. Но полагаю, что и при ней…
— У Алеши от меня никаких тайн нет, — твердо и как-то повелительно перебила его Сусанна Юрьевна. — А такое, чтобы от меня утаить да вам, дяденька, поведать, и совсем не может быть, потому что я Алеше более близкий человек, чем вы, родной отец. Он мне что брат, сын и муж вместе…
— Слыхал… Знаю… Да вот, опять, сейчас…
— Все это пустое… Так!.. От тоски лежания всякие мысли диковинные в голову ему лезут! Так ведь, Алеша? — и она села на кровать, положила руку на грудь больного.
Тот вздохнул снова и снова промолчал.
Аникита Ильич посидел еще минут десять, рассуждая на ту же тему, что здоровый человек может «наваляться» и заболеть. Затем он поднялся со словами:
— Не могу я тут долго быть… Дохнешь… Духотища да и вонища. Точно кладовая, где смоквы сушат. Ну, прости Алексей. Ввечеру наведаюсь…
Каждый раз старик-отец уходил с этими одними и теми же словами и обещанием зайти вновь… Но вновь он заходил только на следующий день перед обедом и старался пробыть как можно меньше.
V
Из всех машин русских и заморских, которые действовали на заводах Высоксы, самая лучшая, крепкая, тщательно и притом бессменно работавшая уже более двух десятков лет, был сам владелец, шестидесятитрехлетний человек.
Аникита Ильич вставал в восемь часов зимой и в шесть часов летом…
Когда он просыпался, первые его слова, всегда говоримые вслух, были:
— Помилуй, Господи, на нонешний день, вразуми, оборони, внезапного конца избави.
Затем, перекрестившись, он восклицал:
— Масеич…
Дверь спальни отворялась тотчас, и в ней появлялся камердинер барина, двадцать семь лет ему служащий, Никифор Моисеев Шлыков, бывший донской казак, молчавший о своем прошлом, о своей молодости. И только один барин знал давно это прошлое своего любимца… Одно слово барина могло по закону угнать Масеича в Сибирь, но барин, конечно, никогда этого слова не сказал бы. Он любил Масеича, быть может, больше, чем кого-либо, но этого даже не сознавал. Когда Масеич раз в год, а то и в два, хворал и не являлся, Аникита Ильич был не в духе, раздражителен и сам себя чувствовал точно хворым. А тот горемычный, который заменял хворающего, конечно, висел на волосок он гнева раздосадованного барина.